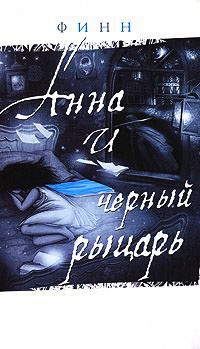Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 98
Ему верили — давали деньги. И все до копейки Гааз тратил на больных и арестантов. Когда не хватало, брал из своих, когда они заканчивались, закладывал вещи — так исчезли его великолепная коляска, четверка лошадей, породистая мебель, подмосковный особняк. Над ним зло потешались, придумывали анекдоты, сочиняли пышные доносы. Но Гааз не замечал усмешек, не обращал внимания на завистников. Он все и всех прощал.
Тюрьмы при нем преобразились. Доктор расширил и утеплил казематы, выстроил нары. Каждый заключенный получал набитый соломой матрас, который меняли раз в полгода. Гааз делил арестантов по возрасту, полу и преступлениям — серийные убийцы никогда не сидели вместе с малолетними воришками. Он придумал особый, так сказать гуманный, тип кандалов — с кожаной обивкой, не натиравшей ноги. Добился, чтобы заключенным не выбривали половину головы — это средневековье, это оскорбительно натуре человеческой. Он каждую неделю лично обходил тюрьмы, встречался с подопечными, собирал их прошения, утирал слезы своим лавандой пахнущим батистовым платком, дарил мальчишкам солдатиков. Этот рыхлый, круглый, неуклюжий человечек, страдавший одышкой и ревматизмом, резво бегал и работал без устали. Но говорить об этом не любил.
«Много трудностей, но, слава Богу, управляемся», — скороговоркой выпалил Гааз и улыбнулся Анне небесно-серыми глазами. Он понравился Листер сразу, с первых своих картавых тра-та-та, с первого выразительного подкупающего взгляда. Он встретил англичанок у порога пересыльной тюрьмы — как всегда, в кюлотах, парике, во фраке с танцующим крестиком в петлице. Здесь жил и сам — в двух казематных комнатках. В одной устроил спальню — походная железная кровать с матрасом, потертый косоногий столик, деревянное распятие и блеклая копия рафаэлевской Мадонны на стене. В другой был кабинет — стол посолиднее, но такой же хромой, изъеденное мышами кресло, косые полки с книгами. В углу, словно журавли, загнанные в вольер, стояли бронзовые телескопы. Ночами, когда болела душа и не спалось, доктор Гааз выбирал один, ставил перед распахнутым окном и в глубокой тишине, зачарованный и совершенно одинокий, наблюдал холодное непостижимое звездное небо, которое так его манило и иногда лучилось в его детских печальных глазах.
Бегло познакомив англичанок со своим холостяцким житьем-бытьем, он провел их через казематы в тюремную больницу: «Удобная, хорошая, открыта в бывших рабочих бараках. Здесь лежали несколько человек — женщины отдельно от мужчин. К сожалению, доктор Гааз был бессилен им помочь. Но очень хвалил власти — они позволили ему оставлять в больнице смертельно больных арестантов, чтобы они могли провести последние дни в комфорте, который, кажется, доселе не ведали. Все здесь устроено хорошо — видели смотровую и лабораторию. Я попробовала суп и хлеб — черный и белый. Все хорошего качества».
Несколько раз ударили в колокол — так здесь сообщали о перекличке арестантов. Каждое воскресенье около четырех часов дня их собирали во дворе, проверяли по списку, выстраивали и отправляли в долгий мучительный страшный путь — к месту заключения, на каторгу, в Сибирь. «Должны будут пройти пять с половиной месяцев до самой Сибири. Идут в день не более 22 верст и отдыхают через каждые два дня. Все арестанты очень разные. Один осужден за воровство кобылы, другой — за то, что ударил ножом человека, третий — за то, что не помог утопающему, были осужденные за подделку документов и утерю паспортов. Тех, кто имеет несерьезную провинность, отправляют на поселение в качестве фермеров-колонистов — осваивать новые земли. Если человек заболел, его оставляют в госпитале и отправляют по этапу, лишь когда он поправится. По ходатайству доктора Гааза, заключенным разрешают провести некоторое время в этой пересыльной тюрьме — встретиться с женой и детьми, увидеться с друзьями и решить личные вопросы. И потому все здесь спокойны, вполне довольны. Я не видела ни одного плачущего. Иногда жене и детям разрешают сопровождать мужа по этапу — тогда им выдают одежду и еду за казенный счет. Император проявляет интерес и заботу к заключенным. Государство поддерживает начинания Гааза».
Истинный британский джентльмен, Листер редко кого-то хвалила и, даже когда хвалила, цедила сквозь зубы: «мило», «достойно», «неплохо». Но здесь, в тюрьме, не сдержалась — затараторила, совершенно по-женски, комплименты, чем еще больше смутила скромнягу Гааза. Она была взволнована, поражена — нет, она была убита наповал. Она ведь знала, что такое тюрьмы — бывала во многих. У Анны был пунктик, традиция, если угодно, — осматривать темницы в городах, куда она впервые приезжала. Она не в силах забыть этих несчастных англичанок, изгаженных, избитых, в липком дырявом рубище, в кандалах, — как они копошились в вонючей соломе, как стонали, просили о помощи и жили лишь до тех пор, пока их кормили родственники или случайные добрые люди. Она видела эти страшные гигантские колеса в центре тюремных залов. Они издавали душераздирающие звуки, когда их вращали десятки арестантов, взбиравшихся вверх по деревянным зубьям, — если узник падал, он ломал ноги. Или как они бесцельно часами перетаскивали пушечные ядра — с одного места на другое. Эти наказания придумало гуманное британское общество — так человека лишали сил, голоса, превращали в забитое животное. И здесь, в России, в стране рабов и крепостничества — строили тюрьмы, жизнь в которых была лучше, чем на свободе. Парадоксально! И русский царь — не злой поработитель. Он заботился о заключенных. Анна едва бы в это поверила, если бы не увидела все своими глазами. Она была ошарашена, не могла найти нужных слов. Она горячо трясла пухлую руку доктора Гааза — благодарила, желала успехов.
«Merci, — отвечал смущенный доктор, — даст Бог, управимся». Он часто поминал Бога. Верил в него глубоко, фанатично. Пока они с Анной переходили из одной больничной палаты в другую, он, склонив голову набок, уютно уложив, словно пастор, руки на подвижном животе, поинтересовался, часто ли она ходит в церковь. Пересказывая путаную жизнь сумрачного арестанта-троеженца, бывшего дворянина, неплохого в общем человека, осведомился, сколько раз на дню она молится. И когда Анна хвалила его и осыпала комплиментами, он вдруг спросил — какого она вероисповедания. Листер не выносила разговоров о религии. И только фыркнула в ответ. На это Федор Петрович причмокнул по-немецки «nun gut», «ну-с, хорошо-с», извинился учтивым поклоном, оставил гостий и через минуту вернулся с книжицей в картонном переплете — Новым Заветом на французском языке, его скромным подарком на память о тюрьме. Такие же, на русском, доктор Гааз лично выдавал арестантам перед этапированием. Их печатали в Петербурге на средства щедрого Британского библейского общества. На титульной странице доктор написал: «Боже милосердный! Прости меня грешного!», дата, росчерк.
Вручая книжицу, попросил Анну читать Писание каждый день. Это было уже слишком — Листер буркнула по-французски: «Не могу ничего обещать. Я постараюсь — и это я вам обещаю». Он посмотрел на нее совсем по-доброму — будто не расслышал раздражения в ее голосе.
Все-таки он был ужасно трогательным и странным человеком. Казалось, эта его фанатичная страстная вера и светлая печаль в глазах неслучайны. Гааз был глубоко, трагично одинок. Говорили — живет одной работой, пожертвовал семейным счастьем. Но никакой семьи у него никогда не было. Доктор с добрыми глазами и чувствительной душой свое сердце держал на замке, открывая его лишь Богу. В нем была какая-то тайна, какая-то невысказанная личная драма, которую выдавал иногда взгляд и ощущали его современники… Они расстались добрыми приятелями. Обещали видеться, писать друг другу. Доктор Гааз по-детски махал им вслед, кланялся и придерживал пухлой рукой рыжеватый опудренный парик.
Ознакомительная версия. Доступно 20 страниц из 98