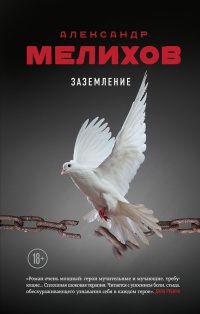— Как всегда, — растерянно ответил ребенок. — Школа.
— Да, и что же именно в школе? Какие занятия?
Том тревожно оглянулся на меня, как будто я должна была сыграть роль посредника между ним и отцом и поскорей избавить его от этих невинных и бесполезных вопросов. Я ответила Тому выразительным взглядом, которой должен был передать приблизительно такое сообщение: «Я тут ни при чем — сама не понимаю, что происходит. Просто скажи ему расписание уроков и доедай спокойно свои хлопья — твой отец прошел через полную трансформацию личности…»
Естественно, переслать подобное сообщение одним взглядом — вещь невозможная даже между близкими людьми. Для этого нужно располагать как минимум несколькими парами глаз или обладать совершенно невероятной мимикой.
— Не знаю, — промычал Том. — Математика вроде. Потом английский. М-м-м…
Он с надеждой посмотрел на Дэвида — достаточно ли будет столь краткого изложения его текущих проблем? — но тот по-прежнему выжидательно улыбался.
— Игры, по-моему.
— Успел сделать уроки, или, может, нужно помочь? Твой старик, конечно, не самый светлый ум в Британии, но кое-что понимает в языке и литературе. Сочинения и все такое.
После этих слов Дэвид хихикнул, чем вызвал еще большее недоумение за столом.
Том уже не производил впечатление мальчика, озабоченного поведением отца: его тревога сменилась чем-то напоминающим откровенный ужас. Мне стало жаль Дэвида: прискорбно, после столь искренней и старательно исполненной попытки (которая наверняка далась ему с немалым трудом) наладить задушевную беседу и внести теплоту и уют в семейный разговор он потерпел полный крах. Его слова были встречены с нескрываемым подозрением. Что поделаешь — десять лет жизни бок о бок с домашним брюзгой не проходят даром, ведь Дэвид уже с рождения Тома был ворчливым семьянином.
— Да, — ответил Том, испытывая явное недоверие к новому стилю поведения отца, — по письму у меня все в порядке. Если хочешь, можешь помочь мне с играми.
Это была шутка, и, надо сказать, совсем неплохая — я даже рассмеялась. Однако сейчас в нашей семье наступили иные времена.
— Конечно, — откликнулся Дэвид. — Хочешь попинать мяч после школы?
— Было бы здорово, — сказал Том.
— Вот и договорились, — обрадовался Дэвид.
Между тем Дэвид прекрасно осведомлен, что выражение «было бы здорово» может означать что угодно — он слышал это выражение уже не первый год, но еще ни разу оно не соответствовало понятию «хорошо». Вот слова «недоносок», «неблагодарный свин» или просто «заткнись» — это да, а «хорошо» — это мы еще не выучили. Я начала подозревать неладное — кажется, единственное рациональное объяснение происходящему способно дать лишь клиническое обследование. Загадка поведения Дэвида может быть разгадана только врачами психиатрической клиники.
— Сегодня зайду в магазин за новыми кроссовками, — бодро сказал отец, однако радости его никто не разделил.
Мы с Томом переглянулись и отправились готовиться к наступающему дню с таким видом, будто он ничем не отличается от предыдущих.
Стивен оставил мне сообщение на работе. Я не ответила.
Когда я вернулась с работы, дома меня ждали двое детей и один взрослый, склонившиеся над картонным игровым полем на кухонном столе, а также куча сообщений на автоответчике. Тут как раз раздался очередной звонок. Я было дернулась к телефону, но запуталась в рукавах плаща, который мне никто не помог снять (да и не принято у нас такое), однако Дэвид не заметил моих усилий и не предпринял никаких попыток избавиться от надоедливого звонка. Наконец сработал автоответчик, и послышался голос главного редактора газеты, в которой Дэвид с таким успехом сотрудничал в качестве самого сердитого человека в Холлоуэйе.
— Дэвид, неужели трудно снять трубку? Сколько он будет там надрываться?
Я не отдавала себе отчет, имею ли я в виду главного редактора или телефонный аппарат.
Дети хихикнули. Им было весело. Дэвид безучастно тряс кубики.
— Ты что, не можешь ответить? — Теперь мне стало понятно, откуда взялась куча сообщений на автоответчике, — Дэвид не снимал трубку с самого утра.
— Папа ушел с работы, — гордо заявила Молли.
— Не ушел, а бросил, — поправил ее Том по праву старшего.
— Дети, что вы спорите — нельзя бросить то, чего нет, и невозможно уйти ниоткуда.
Главный редактор что-то бубнил на заднем плане. Что-то вроде: «Ну же, сними трубку, подонок».
— Ты что, бросил свою рубрику? Что случилось?
По своему тону я и сама не взялась бы определить, как я отношусь к этому пока неподтвержденному известию.
— Все очень просто. Мне нечего там делать, потому что я больше не «сердитый человек».
— Ты? Больше не сердитый? А что случилось с сердитым человеком?
— Не знаю, что с ним случилось, но он больше не имеет ко мне никакого отношения.
— Не имеет?
— Нет.
— Будешь писать о чем-то другом?
— Нет. С газетой покончено.
— А где в таком случае ты собираешься работать?
— Не знаю. Но к прежнему возврата нет. Ведь ты сама видишь, я — другой. Разве не так?
— Да. Я вижу.
— Потому я и не могу писать от имени человека, чьего мнения больше не разделяю.
У меня вырвался тяжелый вздох. Он, впрочем, ничего не означал. Силу творческой личности не преодолеть никаким вздохом.
— А я думал, ты обрадуешься.
Я тоже думала, что обрадуюсь. Если бы еще пару недель назад мне предложили исполнить мое единственное желание, думаю, я именно на этом бы и остановилась, потому что ни о чем другом уже давно думать была неспособна, даже о деньгах, которые могли бы улучшить условия моего существования, точнее, нашего совместного существования — с Дэвидом и детьми. Никакое другое событие не отражалось на нашей жизни столь драматически. Сначала бы, конечно, я пожелала что-нибудь глобальное, для всего человечества: ну там средство от рака или мир во всем мире, но втайне все равно бы надеялась, что всемогущий джинн, предложивший выполнить любое желание, не позволит мне совершить столь альтруистически-безрассудный поступок. Втайне я бы продолжала надеяться, что этот добрый дух скажет: «Нет, ну ты же и так доктор, хватит с тебя того, что ты уже сделала для других. Хватит этих чирьев в задницах и прочих малоприятных вещей — заказывай что-нибудь для себя лично». И тогда, хорошенько подумав, я бы высказала свое заветное желание: «Больше всего на свете я хочу, чтобы Дэвид больше не был сердитым». Да, больше всего на свете я хотела, чтобы он раз и навсегда понял, что все в его жизни в порядке, что у него замечательные дети, что у него верная, любящая и, скажем так, не уродливая жена, которая к тому же зарабатывает деньги, так что нам хватает на бебиситтеров, еду и залог за дом… Я хотела бы выкачать из него переполнявшую его желчь до самого донышка. Желчь Дэвида даже представлялась мне особым веществом, жидкой и вместе с тем плотной субстанцией: нечто вроде сырого цементного раствора. И тогда, выслушав мое желание, добрый джинн потрет свой животик — и на тебе! Дэвид отныне счастливый человек.