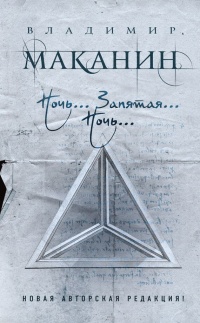– А кто не пьет.
– Я, вот что ты тут делаешь?
– Бомжую.
– Извини, это как?
Не имеется в немецком языке такого всеобъемлющего по своей многозначности слова, пришлось пояснить, «бомжую» – ничего не делаю, никого не жду, никому не обещаю, ни в чем не нуждаюсь.
– Ну что ж, я за тебя.
Он привернул мундштук, щепотку табака положил в трубку, разровнял «золотым» ключиком, я оглянулся: ночь примостилась без приглашения за спинами и вслушивалась в наши беспутные речи.
– Ты здесь работал?
– Угу, учителем.
– Бедняга, хорошая умная профессия. Все еще хлопочешь?
– Да нет, на пенсии.
– И сколько?
Назвал сумму, он всполошился.
– Тебя обманули, тебя обманули! Ты что-нибудь предпринял? Да я получаю больше, чем ты, что же ты сидишь?
Но я никуда не убегал, доверчиво глядел на него.
– Ну вот что, у меня есть замечательный друг, он помогает всем, разбирается в начислении пенсий, мне помог, надо тебя с ним познакомить, сейчас позвоню.
Я ужаснулся, время – второй час ночи, приличные люди спят.
– Йозеф не спит, он чех, знает французский, русский, английский, испанский, был дипломатом во Франции. Жена отравила, хотела состояние прибрать, два года в коме, сейчас почти не движется, но живет.
– Как же так? Ее наказали?
– Йозеф славянин, он так не может, выкарабкался и промямлил, что сам случайно что-то съел, дурак! Она где-то пропала.
Как ни протестовал, он набрал номер, пространно рассказал о моих проблемах, особенно напирал на то, что я русский, сердито попенял другу, что в столь поздний час тот не спит и передал телефон мне, сказав, что Йозеф очень хочет со мной пообщаться. Опасливо прислонил я мобильник к уху.
– Алло.
– Доброй ночьи!
– Доброй! – я обрадовался, голос был мужской, очень добрый, насмешливый и располагающий к владельцу.
– Манфред хороший человек, – я взглянул на Манфреда, – но часто любит прихвастнуть, я давно ничем не занимаюсь, просто лежу и жду. Как ты здесь оказался?
Не вдаваясь в подробности, поведал свою историю.
– Вот видишь, как бросает нас жизнь. Где я только ни был, кого только ни видел, рассказать – десяти томов не хватит. Тысячи женщин хотели меня, а сейчас ни одна женщина не подойдет хотя бы взглянуть на меня.
– Йозеф, какие женщины? Тебе встать надо вначале, а уж потом можно и поговорить о них.
– Ах, перестань, я уже никогда не встану.
– Надо надеяться, – и, как всегда некстати, вспомнились слова молодого немецкого врача: «Надежда вредит здоровью, знание лечит!»
– Надо, было бы на что. Что же ты просидел на такой низкой зарплате, почему не возмущался?
– Я был счастлив, что здесь получил работу, этого достаточно. Вот как ты допустил до такого?
– Я допустил? А не она ли допустила то, что сделала?
Мы все втроем молчали, я чувствовал, что Йозеф улыбается.
– Ну вы, там, мне пора спать, созвонимся?
– Конечно, – заверил я его, – без сомнения.
Манфред потребовал мой номер телефона, я повиновался. Успокоенный и довольный свершившимся, он любовно погладил трубку, обдул, обтер.
– Да, сынок, нет правых, нет виноватых, все несем мы и право, и вину. Убийца, убитый, судья, родные, спроси их, кто виноват, они ответят. Жизнь – одноразовый шприц в задницу.
Как все грустно, как грустно все.
– Да не ешь ты печень…
– Что?
– Печень не ешь, эти животные твари глотают все подряд, печень просто не успевает перерабатывать, и вся гадость там остается. Ешь сердца, – помолчал, – а лучше мозги.
Мне стало плохо.
– Ты что, такой слабый и женат, как же ты живешь с ней?
– Хорошо, – с трудом промолвил я.
Ночь уютно накрыла, сблизила, утешила, ничто не предвещало наступление дня, да и нужен ли он нам!?
Мой новый папа Манфред тщательно смел с платка остатки табака и сигарет в пакет, перетянул резинками и спрятал в портфель. Выпрямился, величественно поднес трубку ко рту, уверенно возжег пламя, почмокал, задымил и медленно, страшась потерять и каплю, втянул живительное зелье, задержал дыхание, усладившись и насладившись.
С сожалением отпустив дым на волю, с болью, понятной только нам, мужчинам, простонал:
– Оргазм!
И я пролил тихие слезы.
Оливер
Он просыпался и вставал с постели всегда в одно и то же время, ложился спать тоже в одно и то же время. В одно и то же время садился в метро и ехал на работу. В одно и то же время выслушивал от коллег на паузах жалобы на пищеварение, на детей, на непомерно высокие налоги. В одно и то же время сосредоточенно просматривал новостные порталы в Интернете, влезал под одеяло, наутро забывал о прочитанном – так было принято.
Приучил себя к разнообразным привычкам и был доволен упорядоченным функционированием тела и духа. Привычки стали потребностями, потребности – привычками, ощущение комфорта не покидало.
День протекал мирно, продуктивно и не навязывал вздорных случайностей. Надо отметить также и еще одну его удивительную особенность: в метро во избежание каверз ни он никого не видел, ни его никто не замечал, что утром, что вечером.
Опустился на любимое место у окна, приготовился к совместному движению тела и вагона. Поезд разогнался, завывая и постукивая колесами, вдруг резко затормозил, дернулся, встал, кто-то охнул, рассмеялся, он невольно взглянул в ту сторону и оцепенел.
Паренек с огромным рюкзаком за спиной не устоял на ногах от толчка и обрушился на девушку, что сидела напротив. Она удержала мальчишку в объятиях, тот копошился на ней, пытаясь оторваться, искал руками опору, не находил, боясь прикоснуться хотя бы пальцем к женскому телу. Слышались тихие извинения: «Простите, поезд, я не хотел…»
Он не отрывал глаз от пары, застывшей в театральной позе, но не кажущаяся преднамеренность сцены привела в смятение, иное: подросток словно сошел со снимков детства: щуплый, нескладный, узкий, длинный, с аккуратными очками на бледном худом лице.
Наконец, мальчишка высвободился, отбежал от юной пассажирки и, вцепившись в поручень сиденья, застыл.
Поезд тронулся, напротив две девчонки восьми лет, задорно поглядывая друг на друга, прилежно запели: «О sole mio…». Через четыре остановки он вышел, покачал в недоумении головой, но день прошел как обычно, без каверз.
Назавтра в метро растерялся, не зная, что делать: радоваться или огорчаться – юный двойник вошел в его вагон, замер у дверей, опираясь на них рюкзаком.