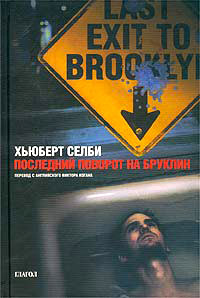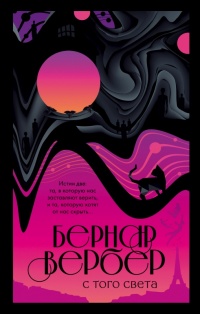Ты был со мной в катастрофе архитектурных ландшафтов, и я выбрала функциональную двухэтажную квартиру, которую оплатили мои „простые“ родители. Кроме денег, им нечего было мне дать. Больше они ни на что не годились.
Их роль была сыграна, их ценности разрушены. Ни от кого я не была дальше, чем от этих двоих, связавших меня узами крови.
Они не осмеливались приходить в нашу странную, изысканную квартиру с бледными пробковыми полами, стальными оконными рамами и островком мебели в гигантской кухне. С момента рождения они испытывали ужас перед своей единственной дочерью, в возрасте двадцати двух лет вышедшей замуж за двадцатишестилетнего полицейского из буржуазно-академических кругов. Более чудовищного коктейля и придумать было нельзя для их пугливых патриархальных умов, где каждый знал свое место: те великие, наверху, и мы, малые, внизу, были хорошими, а все эти лакеи в промежутке — чудовищными порождениями истории.
В качестве свадебного подарка они прислали нам ящик куриных потрошков. Мой отец получил госпособие на развитие бизнеса — в третий и самый последний раз — и занялся разведением птицы, а точнее, кур. Я сочувствовала ему. Потому что он всегда отождествлял себя со страдающими животными. Возможно, он выбрал кур, чтобы жизнь небольшой стаи избранных особей стала терпимей благодаря его заботам.
Мои родители ни разу не побывали в квартире, которую подарили мне, единственной наследнице „госимущества“: пособия на развитие бизнеса в период их экономического падения и превращения из владельца вагончика и работающей совместно с ним супруги в двух безработных. Уже не „простые люди“, а маргиналы. Все относительно. В одну реку нельзя войти дважды.
Вместо родителей-маргиналов с низким социальным статусом к нам приходили куклы Барби с высоким статусом, а ты любил быть Кеном в униформе. Пришла одна, пришла другая, третья, четвертая кукла-малышка. Кровать не пустовала.
Я покупала Барби. Выкалывала им глаза. Отрывала руки и ноги. Таким жестоким был зеленый яд ревности. Таким жестоким было молчание, которое, как ни в чем не бывало, со сладкой улыбкой на устах собирало ужин. Я цеплялась за хозяйство и поваренные книги. Холила повседневность. Появились маленькие диванные подушки из шелка. В ящиках комода благоухала лаванда. В этой галерейке женщин был один приятный момент — твоя популярность. Я предложила пригласить их на обед. Каждой нашлось бы место за столом. Но игра уже кончилась. Модные шлюхи пропали. Стали привидениями, исчезли с первыми лучами солнца, пролившими слабенький серый свет на улицу Финсенсвай.
Квартира, в которой нас до того было шестеро или более — я потеряла счет куклам, — оказалась слишком большой для двоих. Тени порождали расстояния. Мы перекрикивались и убегали, наполняя залы эхом. „Мы, двое детей, по-прежнему любим друг друга“, — повторял ты мне каждый раз, когда я, погружаясь в детали, забывала о главном.
Любовь и страх стали оборотными сторонами одной и той же медали. Две маски, точные копии одна другой. Смертельная смесь, делавшая мои шаги неловкими и неуверенными. Я двигалась в безвоздушном пространстве, как астронавт на Луне. Спотыкалась на каждом шагу. Полы больше были не полами, но толстым слоем пыли на пересеченной местности. Вещи все время менялись. Шторы становились пламенем, мебель — редкими животными, ножи и вилки — оружием.
Здесь, за утренним столом, ты поведал мне, что любишь наблюдать за женщинами, которые действуют так, будто контролируют себя и контролируют ситуацию. Это самое прекрасное из известных тебе зрелищ: женщины в действии. Я кивала и улыбалась. Маска приходила в действие. Но за маской шла мировая война. Вещи никогда больше не станут прежними. Процесс продолжался. Шторы лежали под окном маленькими кучками пепла. Мебель стала окаменелостями в доисторическом музее. Ножи и вилки переплавлены в кандалы. А Барби были всего лишь маскировкой для еще большего обмана: решающей битвы против моей женской души.
Мы жили в новое время, свобода была наивысшим законом. Два самостоятельных индивида, у каждого свои интересы, свои друзья. Не связанные святостью брака, как мои верные долгу патриархальные родители в своем шалаше. И по ночам мы встречались нечасто. Каждый спал в своей комнате, дабы не мешать утренним сборам другого. Ванных в двухэтажной квартире тоже было две. Большая — твоя, маленькая — моя. Как и положено. В разделенной гармонии и общем уважении к свободному развитию индивида. Я наслаждалась одинокими утрами — великим символом свободы, дизайнерами которой мы стали.
Однажды поздним осенним вечером, когда черные тучи затянули звездное небо, ты пошел прогуляться. Всего лишь небольшая прогулка по грязным улицам. Такой невинный вечерний променад, в то время как я ложилась спать, довольная своей превосходной, упорядоченной жизнью. „Да, милый, желаю тебе хорошей прогулки. На ходу прекрасно думается. А нам, людям, необходимо много думать“. Целовать меня на прощание было необязательно. Мы же знали, что любим друг друга. И не нуждались в дешевых доказательствах любви. Никаких сентиментальных объятий к безмолвном интерьере, нашем общем детище.
Ты вышел к темноту. Я погасила свет и легла, дабы забыться младенческим сном на узкой заколдованной кровати. Моя ошибка была в том, что я ходила во сне. И не догадывалась об этих своих походах, пока однажды ты в своей обычной мягкой, покровительственной манере не разбудил меня, шедшую по пробковому полу столовой. Ты поздно ложился и всегда вставал раньше. Я проснулась оттого, что твой палец сильно ткнул меня между ребер. Хотела бы я проснуться в другом мире, по другую сторону земли. В красивом мирном месте вблизи какой-нибудь звезды. Ты проводил меня до моей земной кровати и запихнул мое неземное желание под пробковые полы. Теперь ты мог уйти и продолжить ночные экзерсисы одинокого духа.
В этот осенний вечер, выхваченный мною из длинного ряда одиноких супружеских ночей, я шла во сне через безвоздушное пространство нашей квартиры, как охранник на дежурстве. Внезапно остановившись, открыла глаза, и свет упал на твою пустую, нетронутую постель. Я не легла. Скрючилась в кресле и ждала тебя, а кровь стыла в жилах, и утро приближалось со скоростью улитки. Поднялся шторм. Дождь хлестал в окна. Вполне подходящая мрачная погодка для одиноких мужских прогулок по пустынным улицам, на которых больше не убирают мусор. Тем чище, тем гигиеничней кажется пространство за закрытыми дверями, с оплаченной два раза в неделю уборкой. Молчание мобильного телефона тикало в кармане моего халата. Кресло было — сама красота. Более скульптура, нежели мебель, как и предписано модой. Мода — одно из многих лиц смерти. Я сидела на коленях у смерти и позволяла жизни идти своей дорогой в сторону кладбища.
В семь ты появился в дверях с утренней выпечкой и соком. Здоровый дух в здоровом теле. „Где ты был ночью?“ — „В своей постели“. — „Но она была пуста“. — „Ты за мной шпионишь?“ — сказала ты. Это был наитягчайший из всех мыслимых в свободном браке смертных грехов. Нижайшая из низостей. „Я просто ходила во сне“, — сказала я своим робким, „низкостатусным“ голосом. „Иди спать. Мне надо на работу. У меня на тебя нет времени“, — произнес ты. Слова пали на бессловесный камень. Я впала в немилость.