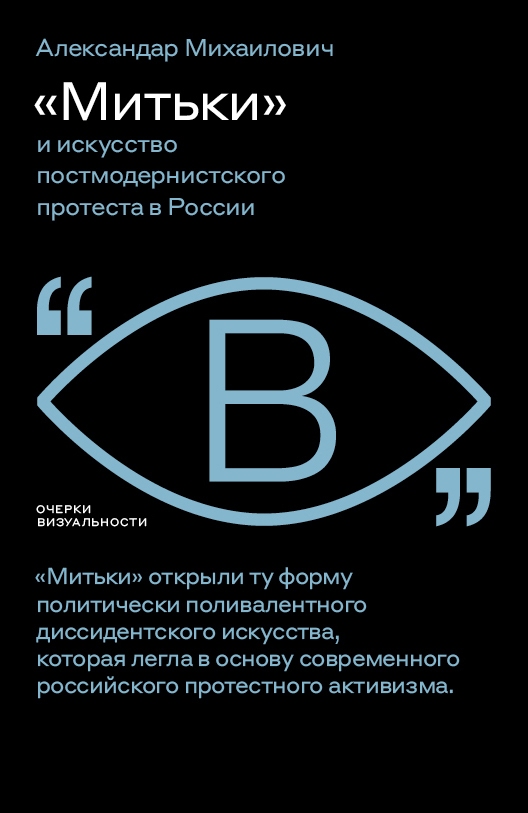тела, оставшиеся после прохода поезда.
История русско-еврейской литературы и советской литературы на идише в XX веке почти еще не рассказана. В большинстве вариантов рассказ завершается в конце 1930-х или в 1952 году, когда были расстреляны ведущие еврейские литераторы. Многие исследователи утверждают, что все опубликованное после 1920-х было создано под давлением. Однако история эта не заканчивается в середине века, она получает свое продолжение в 1960-е и 1970-е, когда возобновились издания на идише и в русских переводах с идиша, и протягивается в XXI век, поскольку русско-еврейские авторы продолжают творить и сегодня.
В работах Д. Вейдлингера, Д. Шнеера, Г. Эстрайха, М. Крутикова и А. Штерншис продемонстрирована значимость советско-идишских институтов и писателей, выявлена модель творчества, в которой могут сосуществовать понятия «еврейский» и «советский», и обосновано взаимовлияние русской литературы и литературы на идише[3]. Другие ученые проанализировали творчество русско-еврейских писателей, таких как Исаак Бабель, однако не существует ни одного полномасштабного исследования, где обсуждались бы и русский, и идиш[4]. Возведенная в научной литературе стена, которая отделяет идиш от русского, заслоняет плодотворное взаимодействие между двумя языками и литературными традициями. Хотя некоторые исследователи, прежде всего Э. Зихер, отмечают, что художественные и политические взгляды Бабеля близки взглядам его современников, писавших на идише, работ, посвященных обеим литературам, крайне мало[5]. Такое ощущение, что Бабель, Перец Маркиш и Бергельсон жили на разных планетах, автор «Конармии» не переводил с идиша (помимо редактуры переводов из Шолом-Алейхема, он перевел рассказ Бергельсона «Джиро-Джиро» о девочке, живущей в нью-йоркских трущобах), а Бергельсон не выступал на том же учредительном собрании Союза советских писателей в 1934 году, где Бабель заявил, что стал «великим мастером жанра молчания». Но если литературоведы игнорировали творческую взаимосвязь Бабеля, Маркиша и Бергельсона, сами писатели читали произведения друг друга. Шимон Маркиш, сын писателя и видный исследователь русско-еврейской литературы, отмечал, что и его отец, и Бергельсон были «очарованы» творчеством Бабеля[6]. Писавший по-русски О. Э. Мандельштам подобным же образом был заворожен игрой выступавшего на идише актера Соломона Михоэлса[7].
Эта книга – работа реставратора, попытка извлечь из небытия еврейскую литературу и культуру советского периода, дабы рассказать историю, давно уже заслоненную телеологией «надежды, обращенной в прах». Извлечение из небытия не сводится к посещению архивов, которые оставались закрытыми до распада СССР в 1991 году. Оно прежде всего предполагает прочтение. Читая, мы помещаем И. Бабеля, Д. Бергельсона, О. Э. Мандельштама, П. Маркиша, Л. Квитко, Дер Нистера, С. Г. Гехта, И. Кипниса, И. Е. Эренбурга, Э. Казакевича, В. С. Гроссмана, С. Липкина, И. Л. Сельвинского, Ф. Горенштейна, Ш. Горшман, Д. Калиновскую, Д. И. Рубину, А. М. Мелихова, И. В. Лесовую и других авторов в одну литературную вселенную, в которой канвой для творчества служат модернизм и социалистический реализм, революция и катастрофа, а также традиционные еврейские тексты, в том числе – Ветхий Завет, литургия и классические раввинистические труды.
Ориентированные на традицию евреи находились внутри парадигмы, где событиям реальности всегда находился библейский эквивалент, где всё происходящее было связано с «континуумом священной еврейской истории» [Miron 2000:40][8]. Еще до революций 1917 года, вне идеологической привязки к социализму, авторы, писавшие на идише, призывали своих читателей к тому, чтобы отказаться от библейской призмы, предлагая взамен условности литературного реализма с его упором на «здесь и сейчас» и на бытописание. Позднее, в 1930-е годы, официальная советская доктрина культуры заявила, что роль искусства прежде всего заключается в прокладывании пути в будущее и подчинении настоящего и прошлого конечной цели[9].
Тем не менее, присущая евреям историографическая привычка рассматривать настоящее сквозь призму прошлого никуда не делась. Советская эпоха, с ее акцентом на строительстве и мобилизации, спровоцировала переосмысление еврейской темпоральности с ее взглядом вспять. На допросе Бергельсон говорил о силе библейской образности, особенно – образа разрушения Храма, о котором скорбят в день девятого ава [Rubinstein, Naumov 2001: 150–151]. В текстах Мандельштама прослеживается хоть и светская, но явственно еврейская темпоральность. Рассуждения о раздробленной хронологии его эпохи, неприятие еврейского прошлого, а потом тяга к нему, отказ от духа современности вводят его в ту же орбиту мысли, в которой работали авторы, знакомые с классической литературой на идише и, в силу религиозного воспитания, способные воспринимать разрушения, выпавшие на их собственный век, в свете древней еврейской истории[10]. Мандельштам, творивший в раннесоветский период, рассматривал момент своего бытия как период после катастрофы. И ангел истории Беньямина, и век-волкодав, век-зверь Мандельштама обращены вспять, только век Мандельштама, подобно раненому зверю, оглядывается «на следы своих же лап» [Мандельштам 1991: 103].
Ц. Гительман и А. Штерншис пришли к выводу, что знание и соблюдение религиозных обрядов не являлись значимыми факторами идентичности советских евреев[11]. Общими для них были светская и этническая формы самоидентификации, а не привязка к еврейскому календарю или еврейской книжной традиции. Советская национальная политика 1930-х годов, урбанизация, разрушения, связанные со Второй мировой войной, в совокупности своей привели к появлению того, что Гительман называет «истончившейся культурой», в которой отсутствовали внешние проявления еврейства [Gitelman 2003: 49]. Однако чтение еврейской литературы, особенно послевоенной, говорит о том, что культура эта истончилась не так уж сильно: впрочем, нас интересуют не личности авторов, а их творчество, прежде всего прозаическое и поэтическое, равно как журналистика и кино – иными словами, артефакты культуры, формальные паттерны которых можно отследить, проанализировать и включить в диалог с другими произведениями[12]. Мы пользуемся следующими литературоведческими методами: медленное чтение, анализ поэтики, отслеживание интертекстуальных связей. С помощью ритма и звука можно усилить эффект темпоральной раздробленности, к созданию которого стремились многие авторы; скрытые цитаты способны воскресить голоса, которые заставили умолкнуть. Формализм нашего подхода – реакция на то, как ранее воспринимали большую часть произведений, о которых пойдет речь; мы имеем в виду получение нового удовольствия от прочтения текстов, превращенных в невидимок в истории литературы[13]. От катастрофического по своей мощи насилия XX века, от надежд и разочарований, связанных с советским проектом, остались следы в литературе, и к ним следует присмотреться в контексте истории, но не следует сводить к простому отображению или набору маркеров идентичности, к биографии автора или господствующей политической доктрине (которую автор мог поддерживать или отвергать). Все эти обстоятельства, безусловно, нужно принимать в расчет, однако к тексту следует подходить с его же собственными мерками, в рамках его внутренней логики.
Большинство авторов, о которых пойдет речь, – за исключением Бабеля, Мандельштама и Гроссмана – неизвестны англоязычному читателю. Новые