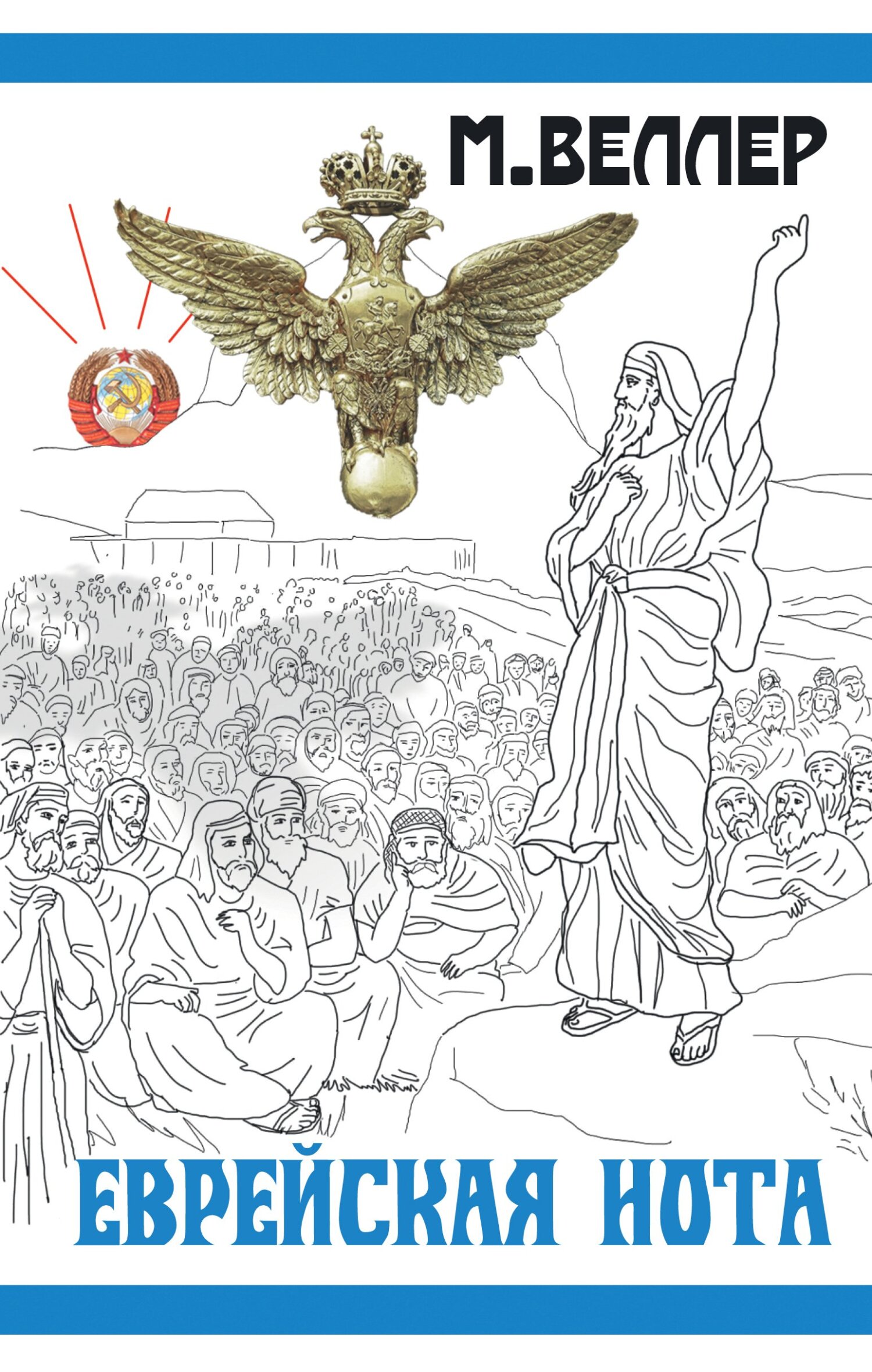с ее громоздкими томами Достоевского, Чехова, Толстого и Жюля Верна. «Того, что я прочел, было достаточно, чтобы разжечь во мне огонь любви к русскому языку»[8], – вспоминал спустя полвека именитый писатель и драматург, неслучайно озаглавивший свою первую пьесу как «Отцы и дети». Символично, что год написания «Отцов и детей» совпадает с годом, в который Нуайме, по собственному признанию, в последний раз полноценно «пользовался» русским языком, то есть с роковым 1917 годом[9].
Михаил Иосифович Нуайме действительно был одним из сотен христиан Леванта, надеявшихся с помощью учрежденного в 1882 году Императорского православного палестинского общества продолжить свое образование – в том числе и теолого-педагогическое – за рубежом. Общество готово было оплачивать обучение стипендиатов в семинариях и академиях Российской империи, не накладывая взамен на юношей, в отличие от соответствующих отделов Святейшего Синода, никаких обязательств относительно дальнейшей их судьбы: выпускники русских духовных школ могли как продолжать трудиться в светских и духовных учебных заведениях Империи, так и возвратиться на родину, не компенсировав Обществу объемов своей стипендии. Известно, что большинство иностранных студентов обучалось в малороссийских семинариях и Киевской духовной академии, хотя первые стипендиаты Общества – в том числе директор Учительского института в Назарете Александр Гаврилович Кезьма – часто направлялись на учебу в Москву и Санкт-Петербург. Нуайме же, как и десяткам его коллег до и после него, предстояло прослушать полный курс лекций в Полтавской семинарии – школе, вплоть до 1918 года рекомендовавшей не одного своего выпускника-араба к продолжению обучения в Киевской академии[10].
Первое очарование юноши «черным кителем, на каждой из пуговиц которого блестел двуглавый орел» сменилось увлечением «лермонтовским» пластом русской литературы. Именно «Демон» подвиг Нуайме, с самого начала учебы в семинарии решившего «во всем стать подобным русским», написать первые свои русскоязычные стихотворения, обретшие популярность в полтавской студенческой среде. Кроме того, курсант, вдохновленный «Дневником семинариста» Никитина, принялся вести дневник на русском языке, семисотпятидесятистраничная часть которого пережила и долгое его американское путешествие[11]. Сохранившаяся и впоследствии опубликованная автором в арабском переводе часть русского дневника неравномерно поделена между хроникой четырех семинарских лет Михаила и первыми набросками его критических и литературно-теоретических статей. Размышления над бедственным положением современной литературы перемежались рассказами о юношеских сомнениях, о первой – и, по-видимому, последней – взаимной любви семинариста и жительницы Герасимовки красавицы Варвары, о тревогах за «повстанца из Ясной Поляны», чьи победы и поражения искренне верующий христианин Нуайме воспринимал как свои собственные. Так или иначе, но именно в эту неспокойную пору Михаил нащупывает тот нерв, что пройдет сквозь все его прозаические произведения.
Меня увлек Толстой. Чем? Поиском собственной сущности, поиском истины окружающего мира. Этот Толстой влюблял в себя сильнее, чем автор «Войны и мира» и «Анны Карениной». Я приступил к этому серьезному поиску и начал искать свою самость и самость всего большого мира, идя по пятам Того, вслед за Кем шел сам Толстой. Я следовал Евангелию[12].
О том же Нуайме писал в известном своем письме И.Ю. Крачковскому:
…Кроме того, мой литературный вкус значительно изменился. Только произведения, имеющие космический оттенок, отыскивающие глубочайшие истины жизни, окончательные и безусловные, привлекают теперь мое внимание. Чем старше я становлюсь, тем все менее интересуют меня различные формы, внешние показные стороны, меняющиеся день ото дня, век за веком[13].
Хоть молодой Нуайме и неоднократно изъявлял на страницах дневника желание «печататься где угодно», его первым планам о «космических произведениях» не суждено было сбыться на территории Российской империи. Отчисленный с другими студентами курса в 1909 году за участие в студенческой забастовке[14], Михаил лишь зимой 1911 года получил допуск к сдаче экзаменов за четвертый год обучения. Забрав «выстраданный» диплом, он ненадолго возвращается в Ливан, чтобы вскоре, вместе с родным братом Дибом, отплыть в Соединенные Штаты Америки.
Так готовившийся к поступлению в Сорбонну Нуайме очутился незадолго до Рождества того же 1911 года в городке Валла-Валла штата Вашингтон. Перед ним уже не стояло никакого выбора: вынужденный на время позабыть о русском и арабском языках, Михаил усердно учил английский, на этот раз параллельно с учебой в Вашингтонском университете, студентом которого неудавшийся богослов стал осенью 1912 года. Семинарский диплом давал Нуайме право зачисления на третий курс, которым юноша умело воспользовался, освоив учебные программы как факультета искусств, так и юридического. К тому же привезенный в Сиэтл в мае 1913-го первый номер нью-йоркского арабоязычного издания «Искусства» («Фунун») быстро изменил размеренную, если не сказать мещанскую, жизнь новоиспеченного студента: напечатанные на первых страницах журнала произведения Джебрана Халиля Джебрана и ʼАмина ар-Рихани напомнили Нуайме о забытом, но, тем не менее, живом литературном арабском языке. Некогда мечтавший о карьере литератора, Михаил берется за перо. Первая его статья, надписанная как «Рассвет надежды после унылой ночи» и содержащая положительные отзывы о знаменитом рассказе Джебрана «Сломленные крылья», достаточно быстро дошла до основателя журнала, – давнего знакомого Нуайме по Назарету Насиба ʻАрида. Его восторженный ответ не заставил себя ждать.
Дорогой друг! То, что ты написал о «Сломленных крыльях», весьма красиво и верно. Твой стиль мне понравился. Надеюсь, я увижу тебя в стройных рядах наших молодых писателей – писателей этого нового века, что станет золотым веком наших заброшенных искусств. Прошу тебя, продолжай писать. Изучай всех наших писателей, начиная с ал-Язиджи и кончая стихотворцами последних дней, и пиши нам о них. Я хочу, чтобы все знали: они дали нам только шелуху своих панегириков, поношений и пустых, тяжелых речей. Надеюсь, ты станешь нашим Белинским или Сент-Бевом[15].
«Тогда меня не занимала никакая любовь, за исключением разве что любви к перу»[16], – так говорил Нуайме о времени первых своих критических и прозаических опытов. Опыты эти, занявшие все свободное время Мастера, пришлись по вкусу литературному «истеблишменту» арабской эмиграции, который, тем не менее, обошел молчанием временное закрытие «Искусств» в мае 1914 года. Примерно в то же время Михаил, опечаленный издательским провалом своего друга ʻАрида, получает от него свежеотпечатанный экземпляр романа Джебрана «Слеза и улыбка» с просьбой уже ставшего к тому времени известным ливанского писателя-эмигранта о критическом отзыве. Так судьба связала «арабского Белинского» и с Джебраном, и с газетой «Турист» («ас-Саʼих») другого назаретянина, ʻАбдулмасиха Хаддада, охотно принявшего к печати отзыв на новое произведение великого ливанца. Кстати, немного позже к редакционной коллегии «Туриста» примкнет все тот же Насиб ʻАрида.
В этом вполне понятном воодушевлении и застала Нуайме Первая мировая война, приведшая на