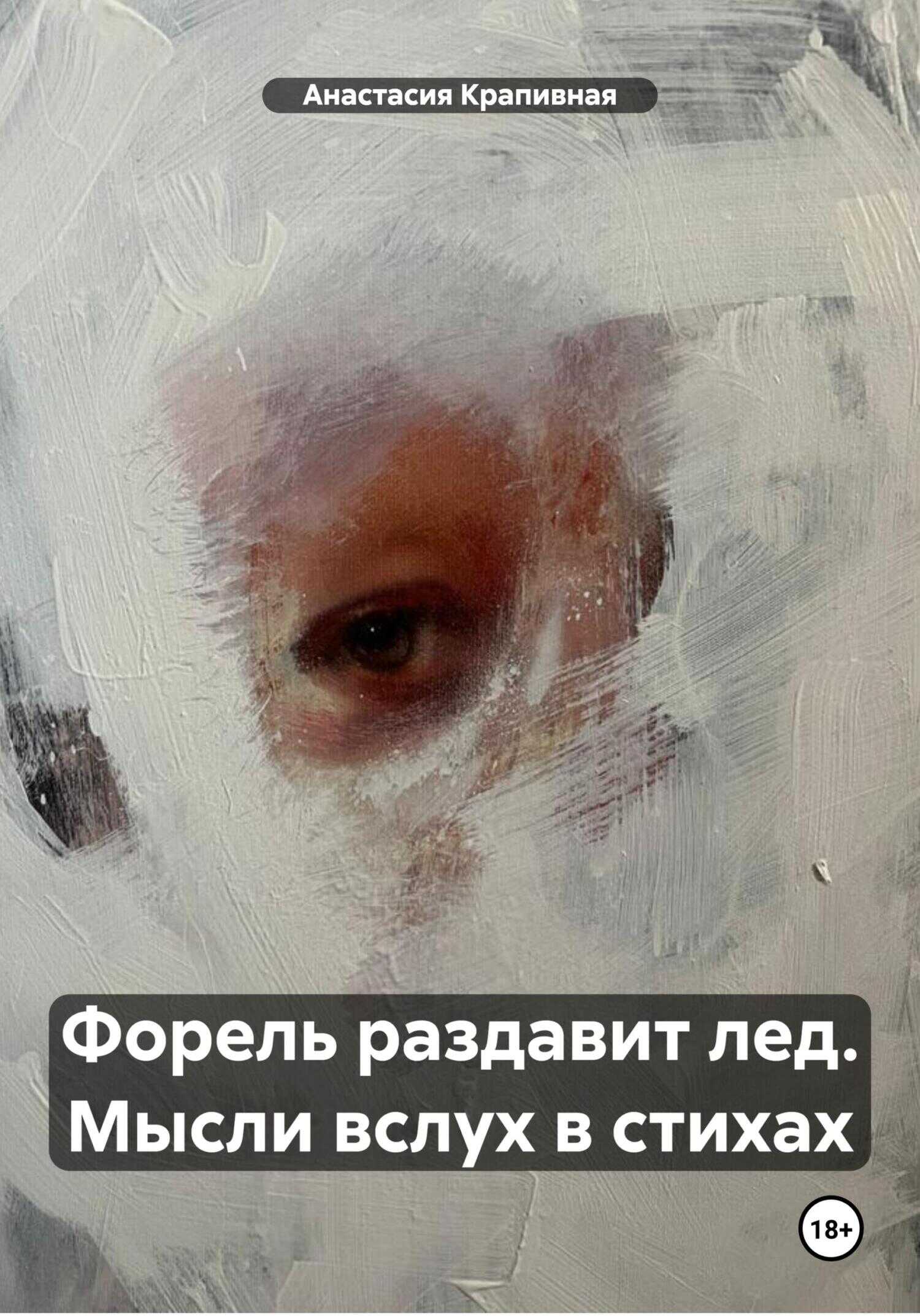снимают с себя совершенно мокрые костюмы.
И это такие молодцы, как Дуров, Смирнитский, Грачев, Броневой, Сайфулин. Что же сказать об Оле Яковлевой, играющей Джульетту? Похудевшая, с красными глазами, она даже не в силах разгримироваться. Она это сделает потом, дома, немножко придя в себя.
«Ромео и Джульетта» начинается со сцены уличной драки. Уличная драка, а перед ней — небольшая экспозиция типов дерущихся.
Они ведут себя столь же низменно, как обычно ведет себя всякое уличное хулиганье. Идиотски настраивают себя на драку. Потом — ищут, к чему бы придраться. И, наконец, начинается поножовщина.
— Сколько крови! — говорит Ромео.
Каждый нормальный человек никогда не перестанет удивляться тому, с какой легкостью хулиганы хватают друг друга за лицо. Даже когда нет никакой драки, когда группа кажется мирной, дружественной. Раз! — и всей пятерней «дружественно» ухватил за лицо приятеля. Потом толкнул его в стенку, а тот и не думает обижаться — это их норма.
Первобытное презрение к неприкосновенности личности.
А в те времена, я представляю, что вообще делалось в определенной среде!
М. М. Морозов, стараясь объяснить природу шекспировских пьес, среди прочих рассуждений приводит вот какое: теперь человек, получивший, допустим, оскорбление, довольно редко пускает в ход руки. Хорошо ли, плохо ли, но он научился сдерживаться. Тогда же вслед за оскорблением совершенно свободно шел удар.
Так вот, я представляю себе эту толпу безграмотных, полупьяных, жестоких слуг, стоящих между домами на маленькой площади. Они распаляют себя, самолюбиво гарцуют друг перед другом и ищут разрядки давящей их бессмысленной пустоты.
Когда видишь, как несколько парней часами стоят в воротах какого-нибудь дворика, толкаются, хохочут, на спор бросают монету, чтобы продемонстрировать, как ловко кто-то ловит ее на лету, понимаешь, что причина этому духовная и умственная пустота. Полная незагруженность чем-либо существенным.
Впрочем, шекспировские слуги загружены. Их загрузили ненавистью одной группы к другой, одного рода к другому. Эта ненависть стала единственным содержанием их жизни.
Пожрать, выпить, пуститься в загул — это как бы животные отправления, а вот побить монтеккиевых слуг — это уже для них переход от животного начала как бы к началу сознательному.
Новый герцог, правда, осуждает вражду. Вражда при новом герцоге официально преследуется. Однако в самих душах нет запрета для ненависти, и потому слуги в «Ромео и Джульетте» ищут лишь такой повод для драки, чтобы закон оказался на их стороне. Но при появлении Тибальта и эта сомнительная доля разумности исчезает, ибо ему ненавистно само слово «мир», а он, что называется — непосредственный хозяин. Стало быть, надо действовать.
… И вот в этой Вероне жили слишком кратко — как бы временно — Ромео и Джульетта. Столь же недолговечной оказалась и жизнь Меркуцио. Остался только Бенволио, которому трудновато будет на первых порах одному, хотя после смерти Ромео и Джульетты на некоторое время установится относительное благоденствие. Враждующие стороны будут ставить памятники жертвам своей вражды и т. д. и т. п.
Молодежь эта была цветом нации. Среди грязи они ходили, по выражению Ромео, «как голуби среди вороньей стаи». Это были поистине интеллигентные молодые люди. Подобно Гамлету, они принадлежали как бы иному миру, чем тот, в котором жили. Но они не были не от мира сего. Они варились во всех тех проблемах, которыми болели все. Они не витали в облаках, они стояли на земле, они умели и драться и ненавидеть, но они были цветом нации, и потому им в той Вероне было трудно.
Духовным отцом Ромео, а может быть и всех этих ребят, был Лоренцо.
Лоренцо, вероятно, тоже не сможет больше жить здесь, даже если после всего случившегося герцог оставит его в живых.
Действительно, «нет повести печальнее на свете»!
Хотя поведение этих ребят и этой девочки способно оставить в нас колоссальный след!
* * *
Вспоминая собственные репетиции и те, на которых мне приходилось просто присутствовать, я различаю по крайней мере две ошибки.
Первая — это когда начинают что-то делать, по-настоящему еще не разобравшись в материале и не найдя интересного решения. Начинают репетировать, искать какие-то художественные средства. Добиваются известного совершенства в исполнении. Ищут нюансы. А подо всем этим — самое элементарное общее толкование. При этом сами нюансы могут быть ужасны, но могут быть и прекрасны — это не меняет дела. Потом, даже при всех хороших нюансах, все равно откроется торричеллиева пустота.
Конечно, самое трудное — определить, где тот момент, когда материал действительно разобран и найдено интересное решение. Ведь чаще всего кажется, что ты что-то нашел и разобрал, а потом приходят другие и говорят, что все это ерунда. А может быть, даже и не говорят, а ты сам понимаешь: ерунда. Так вот, выработка собственного высокого критерия — вещь, конечно, самая важная. Если такого критерия не существует у режиссера и его группы артистов — хуже этого ничего представить нельзя. Этот вкус, это чувство, это знание вырабатываются, вероятно, не только количеством постановок, потому что есть люди, так много проработавшие и с таким мизерным внутренним критерием! Они вырабатываются, возможно, от воспитания в себе способности соизмерять, сравнивать. Может быть, от способности к самоотрицанию.
Даже в самом репетиционном методе должна быть возможность для такого самоотрицания. Вот, кажется, разобрали сцену с актерами полуэтюдно — постарались ее охватить и отложили, перешли к другой, а потом, пройдя всю пьесу, снова возвращаемся к этой сцене и начинаем разбор как бы заново. И если приводим к тому же — значит, хорошо. Если усомнились — начинай все сначала.
Конечно, при отсутствии опыта так можно крутиться бесконечно, но ведь всякая настоящая работа предполагает какой-то опыт.
И тут рядом лежит вторая основная ошибка. До этого я говорил, что часто начинают репетировать, еще не разобравшись ни в чем. Это похоже на то, как если бы в лаборатории приготовили все склянки и все растворы и честно, восемь часов в день, переливали, делая какой-то опыт, хотя цель опыта была бы липовая, грошовая. Но бывает и так — и это и есть вторая основная репетиционная ошибка, — когда все готовы до бесконечности разбираться в существе, но никто не хочет репетировать, так как считают, что поскольку существо еще не найдено, то надо искать это существо. Но только эти поиски очень уже далеки от профессиональности. И все равно настанет такой день, когда придется начать что-то делать, и тогда все, что говорили прежде, забудется, и люди станут мастерить что-то очень шаблонное. Впрочем, многим будет и на