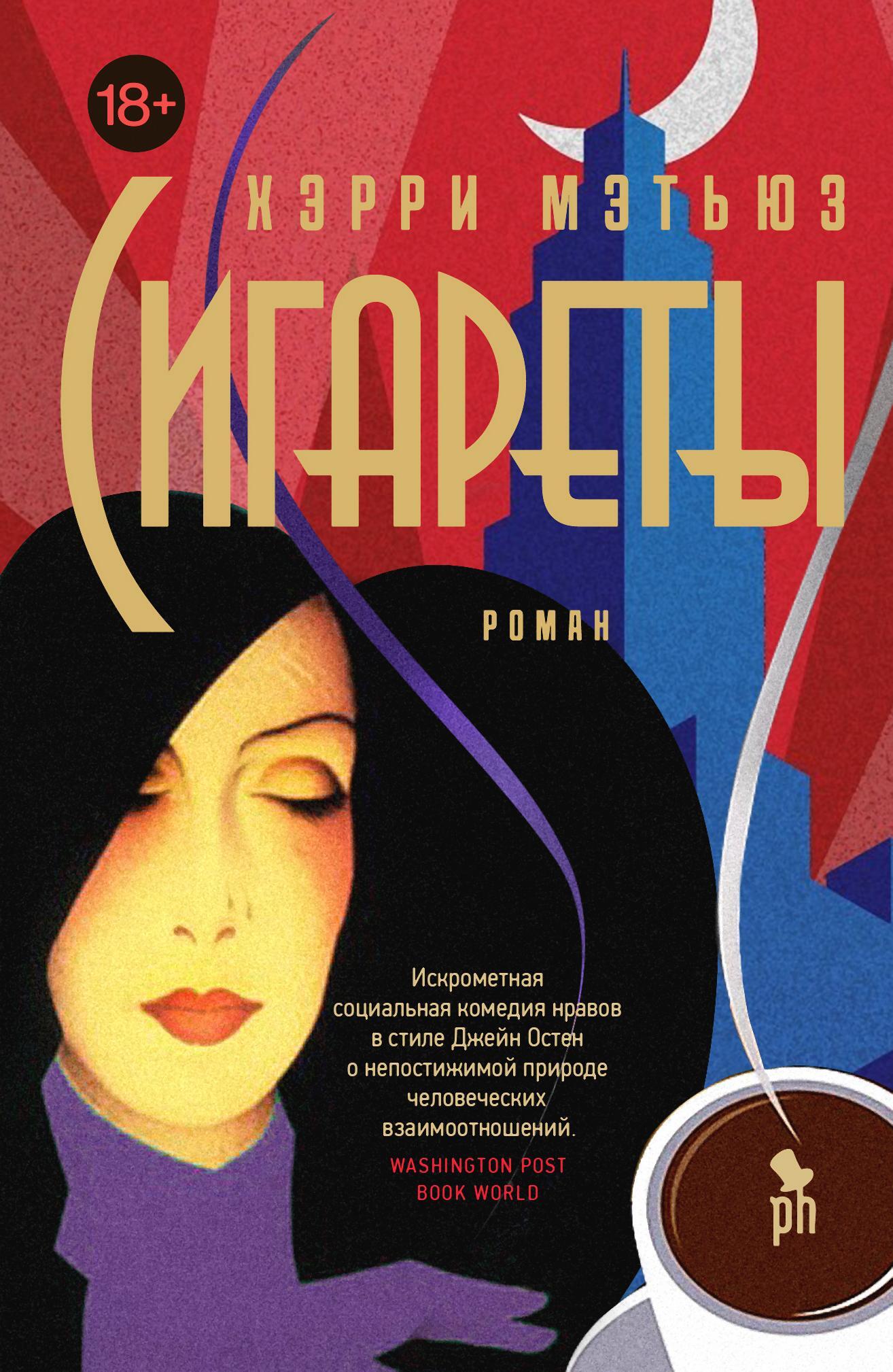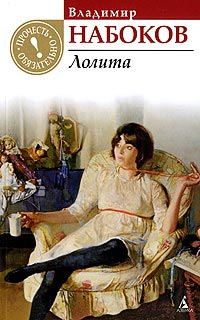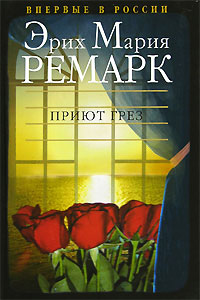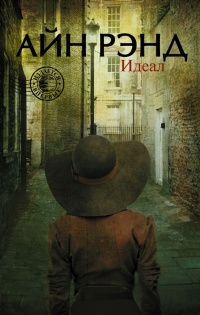— их была тьма-тьмущая. В самом конце пути эти воспоминания приходят ко мне на мгновение — если приходят вообще. Но среди них есть одно особое. Оно всегда со мной, всегда живо, всегда рядом, всегда — от мрачного старта до сладостно-горького финиша — окрашено яркими красками, даже по прошествии стольких лет.
И вот еще что: Рыжик, Старик, славные мои Дикарь и Красавица — как же я по вам скучаю!
Мне остается только одно: закрыть изнуренные глаза на кратчайшее мгновение.
И история начнется.
1
Нью-Йоркская бухта
Лодки взлетели на воздух, по улицам понеслись бурлящие реки, провода то и дело искрили, точно фейерверки, а целые дома под людские крики уносило в море. На календаре было 21 сентября — именно в этот день случился Великий ураган 1938 года. Все побережье, от Нью-Йоркской бухты до Мэна, так пострадало от морского шквала, что об этом еще долго слагались легенды. Семь сотен человек ушли под воду, точно рыбы, и обрели на дне последнее пристанище.
В те времена о разгуле стихии заранее не предупреждали. Ты просто замечал, как бушует море, и гадал, что принесет с собой вон то темное облако, а потом на город обрушивались шквалистый ветер и ливень и приходилось изо всех сил цепляться за жизнь. Доску причала, за которую я ухватился, оторвало и подкинуло в небо. Я пришел в себя в какой-то канаве оттого, что незнакомый бродяга пытался стащить с меня ковбойские сапоги. Увидев, что я восстал из мертвых, он вскрикнул и бросился наутек. Удивительно, но я был цел, разве что весь в синяках и крови, да и подтяжки куда-то делись. Так что пока весь живой мир кричал — кто молил о помощи, кто — о катафалке, — я вытер с лица засохшую кровь, подтянул штаны и пускай и с немалым трудом, но поднялся на ноги.
Лодочный сарай, у которого я еще недавно стоял, унесло вместе с Казом, моим начальником и по совместительству четвероюродным братцем. Я нашел его среди кучи лодочных обломков — он лежал, проткнутый мачтой насквозь. Я — деревенский мальчишка-переросток со свежими шрамами на лице и огромным — размером с батат, получивший первый приз на сельской ярмарке, — родимым пятном на шее. Там и до бури смотреть было особо не на что. Хотя, признаться, тогда я выглядел получше. Сказал бы, что мне повезло, но в те времена я даже толком не знал, что такое везение. Сказал бы, что это был самый страшный день в моей жизни, но в ней бывали дни и пострашнее. Но могу заверить вас вот в чем. Мне тогда показалось, что на своем веку я уже не увижу ничего удивительнее этого урагана.
Но я ошибся.
Ведь последнее, что ожидаешь увидеть посреди разбитых в щепки лодок, домов, охваченных пламенем, и бездыханных тел, слушая нескончаемый вой сирен, — это парочку жирафов.
С моего прибытия сюда и полутора месяцев не прошло; мои разбойничьи легкие еще не успели очиститься от пыли из Котла. Да-да, сколь ни богобоязненна была моя матушка, я сделался самым настоящим деревенским разбойником: помыслы мои были не чище коровьей лепешки. Я был хитер, словно дикий кабан, и успел свести близкое знакомство с окружным шерифом. Пыль и грязь заполнили все мое существо, почти не оставив места для Святого Духа.
Лодочный сарай Каза — такой тесный, что там и портовой крысе не понравилось бы, — стал моим пристанищем, когда «пыльные тридцатые» с такой яростью обрушились на мой уголок Техаса, что на многие мили вокруг смели с карты всех, кто жил и трудился на этих землях. Некоторые — как мои матушка, папа и сестренка — нашли убежище от стихии только в могиле шести футов глубиной. Кто-то вместе с оки[4] брал курс на Калифорнию. Остальные, как я, пытались прибиться к родне — любой, какая только примет.
Из родственников у меня остался лишь человек по имени Каз с Восточного побережья. Я никогда в жизни его не видел, и для меня — семнадцатилетнего парнишки из Техаса — он был все равно что инопланетянин. Но делать было нечего: я остался один посреди разоренных пустошей, похоронив всех, кого любил, и мне некого было просить о помощи, не считая шерифа, к которому я не смел обратиться по причинам, в которых пока не готов сознаться.
Я просидел у могилы мамы, отца и сестренки всю ночь, а потом забрезжил рассвет. Так и не смыв с себя смертоносную пыль, погубившую всех нас, я раскопал в захиревшем мамином садике ее банку, набитую мелочью, и, пошатываясь, зашагал к шоссе без единой слезинки в глазах. И только когда рядом остановился огромный тягач и водитель поинтересовался, куда я держу путь, я вдруг понял, что онемел.
— Ты ведь оки?
Я попытался ответить. Однако с губ не слетело ни звука.
— Ты чего это, малый, язык проглотил? — спросил водитель.
И опять ни слова в ответ.
Окинув меня пристальным взглядом, водитель указал большим пальцем на пустой грузовой отсек и высадил меня на станции Мьюлшу прямо напротив участка, где сидел шериф. Я стал ждать ближайший поезд на восток и все поглядывал на дверь участка, понимая, что не сумею ответить на вопросы, которые непременно возникнут у шерифа, ежели он меня увидит. Стоило только поезду вместе со мной отъехать, как шериф и впрямь вышел на улицу и увидел меня, во все глаза смотрящего на него.
После этого на каждой остановке я просто места себе не находил. Денег хватило, чтобы добраться до Чаттануги; там я пристроился на товарняк и ехал на нем, пока не увидел, как какое-то хулиганье стянуло с бродяги обувь, а потом скинуло его с поезда. Тогда я пересел на мотоцикл и продолжил путь, пока не кончился бензин, подворовывая еду по пути, точно бродячая собака, пока у меня самого этот мотоцикл не украл какой-то беженец с опасной бритвой на изготовку. Тогда мне пришлось отправиться напрямик к Казу, где меня ждало столько воды, сколько иссушенным жаждой глазам и не снилось.
Когда Каз спросил, кто я, черт побери, такой, мне пришлось нацарапать ответ угольком на причале. Он прочел, хмыкнул и проговорил: «Неудивительно, что дурачок, с такими-то родственничками», а потом заставил трудиться, чтобы заработать себе ужин. Сорок безмолвных дней и ночей я ютился на заплесневелой кушетке в дальнем углу лодочного сарая. Но теперь у меня и того не осталось. Снова некому было