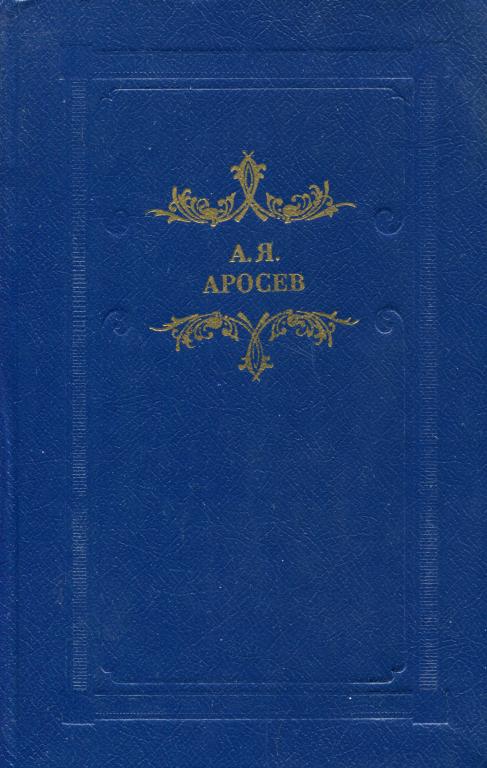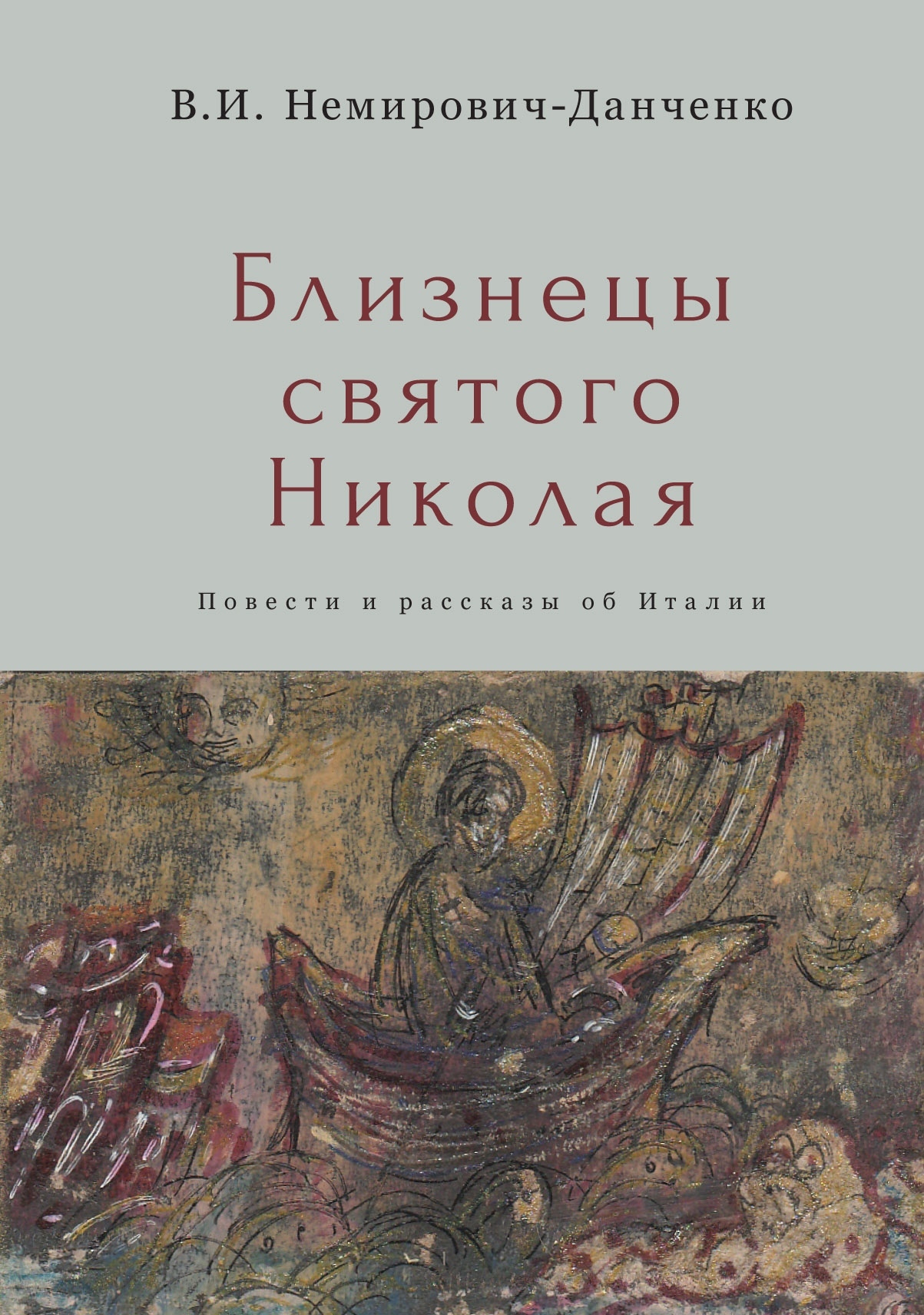заметно пьянея, продолжал:
— Это как где. Когда стоишь в школе, пусть это будет академия или любая другая, везде ученики работают только, если рядом профессор. Ушел профессор — и все они рады ничего не делать. Каждый отлынивает по-своему, а модели это на-руку. Скажешь: «я устал» — так они сейчас же пустят отдохнуть. А вот если профессор пишет, а еще хуже — лепит, тогда беда. Я больше у скульпторов стою и всего насмотрелся. Бывало, и руки и ноги онемеют, а он забыл о тебе и отделывает каждый мускул… А то не понравится, все долой и сначала начинает. И подумать — не все ли мне равно, что он делает? Если смял, выкинул и начал сначала, так еще лучше — дольше стоять буду, больше заработаю. Я ведь по десять и двенадцать крон в час стою. Не то, что модель с улицы, по шесть и по пять крон. Меня знают, меня зовут! Я видел всякое, уж сразу знаю, что художник хочет. А иной такого хочет, что и за двадцать крон нельзя: на одной ноге стоять или, например, нагнувшись.
Тут и пяти минут не выстоишь, надо отдохнуть. Фу, чорт, какая жажда! Когда же это еще пива принесут?
Охмелевший старик оглянулся, сделал неопределенный жест рукой и замолчал, уткнувшись взглядом куда-то вниз. В это время лакей принес кружки со свежим пивом, натурщик очнулся, залпом выпил почти полкружки и продолжал свою, где-то затерявшуюся мысль:
— Он сомнет глину, всю работу выкинет, а мне обидно… Будто я даром стоял. Потому что мне тоже… Да… я тоже хочу видеть, что он создал… я тоже не хочу впустую стоять. Вот держал я виноград… вот этими руками… А теперь как кто вынул стокроновую бумажку, так и видит мои руки, руки Скривана. Вот…
Он поднял голову, посмотрел поверх собеседников и умолк.
— А не приходилось вам наскочить на какого-нибудь негодяя, садиста, на извращения? Ведь среди художников это, того… бывает, — спросил спутник Филиппова.
— А мне-то что? Я стою, а если нужен кому акт с девкой, так я нет… Я — Скриван! Пусть ищет с улицы. Я… А раз попал и я. Чорт! Художник Крафт… Иезус Мария! Вот был мастер! Кончал академию, тут началась война, его забрали, а после войны вернулся он и давай писать свою дипломную работу. Позвал он меня, говорит это: «буду писать Ряспятие, будете Христом». Ну, ладно. Какая же позиция? — «На кресте!» Мне даже холодно стало… Я верный католик, я не какой-нибудь прощалыга, я и тогда не терпел, чтобы мне каждый приказывал любую глупость. Ну, стоял я апостолом, верно… стоял ангелом, ладно, но чтоб Христом на кресте… Как же это, спрашиваю. «А так, говорит, что привяжу я вас и буду рисовать». Ну, сговорились мы, положил он мне двадцать крон в час и по пятнадцать минут. Попробовали, перешли на десять, а потом отдых десять минут. Стал он рисовать. Трудно было, да уж больно горячо взялся он, прямо жадно писал, у самого глаза горят и все спешит. Раз прошло моих десять минут, я прошусь вниз, а он пишет и бурчит про себя: «подождите».
— Да у меня руки болят, — говорю. — Веревка въелась.
— Терпите, — говорит, — Христос больше терпел.
Я стою на тумбочке под крестом, а руки привязаны вверху, затекли, веревка режет — сил нет.
— Я, — говорит, — вдвойне сегодня плачу, терпите!
Наверно, еще минут пять продержал, душой моей клянусь — чуть кричать я не начал. Дня через три перешел он на ноги. Сделал на кресте подпорочку для пальцев, тело привязал ремнем, чтоб не упал я, упрешься и стоишь. Чорт, тяжело было! Смотрю я на его работу — тело все напряженное, мускулы повытянуты — уродство, а не Распятие. И голова только намечена. Я раз и спрашиваю: «Когда же голову?»
— Завтра, — отвечает, — завтра плачу вдвойне: будут и руки привязаны.
— Это же зачем?
— Так мне надо.
— Ну, чорт, — думаю, — как бы опять не продержал… А он поставил меня на подножку, привязал руки и начал писать голову. А? Понимаете? Ни черта вы не понимаете… А я понял! И мороз по спине пошел. И сейчас мороз по спине идет, как вспомню. А ведь это было лет восемь назад.
Старый натурщик словно отрезвел от воспоминаний. Он отхлебнул из кружки, снова раскурил погасшую виржинку, пустил дым и вдруг, строго глядя в глаза Филиппову, спросил:
— Зачем он меня привязал? Чтобы голову рисовать? Не мог посадить на стул? Не мог! Потому что ждал, когда больно станет. Вот что! И дождался — я прошу отвязать, мол, десять минут прошло, а он кричит: «Стойте! Вдвойне плачу!» Я чуть не кричу, а он пишет, глаза горят. Беда, думаю, сошел с ума, да так и оставит меня на кресте! Я говорю ему: «Отвяжите, господин Крафт, дайте отдохнуть, да скажите, чего вы хотите, я помогу вам». — «Страдания хочу! Не лимонада, не Иисусика, а страдания смертного! Висите! Я бы вас гвоздями прибил, не то что веревкой привязать». Тут меня такой страх взял, что я биться начал, вырывать руки. Крафт рассмеялся, подошел, отвязал, смотрит в упор и шепчет про себя: «Вот так, так!..» Рисовал он меня еще три дня и каждый раз прихожу я и боюсь, что останусь висеть на кресте. И первые пять минут он не пишет, все только смотрит, а как жилы надуются, так и начинает. Каждый раз держит дольше и дольше и последнюю минуту пишет, как дьявол. Ну, кончил, пятьдесят крон лишних дал, а картина-то не конченная. У него раньше композиция была, рядом Мария Магдалина стоит на коленях, смотрит на Распятого и тоже лица нет, так, еле намечено. И у Христа лицо чуть намечено. «Что ж это, — спрашиваю, — лицо от другого возьмете?» «А вот приходите, увиде-те. Мне не надо модели. Я видел их…» Не понял я тогда, но через недельку был я рядом с его ателье, захожу. Он ведет меня — полотно закрыто. «Ну, Скриван, посмотрите на себя», — сказал Крафт и сдернул занавеску. Иезус Мария! Я чуть из кожи не выскочил!
Старик вскочил и, протягивая через стол руки, прокричал:
— Там висел сумасшедший и кричал!
Сидевшие за столиками обернулись на крик, но, видя, что все сидят и слушают, спокойно отвернулись, а натурщик как-то сразу обмяк и совсем пьяным голосом договаривал:
— Я убежал и больше там не был. Слышал, что Крафт получил медаль и куда-то уехал, а кто-то говорил, что он в Праге. Я не