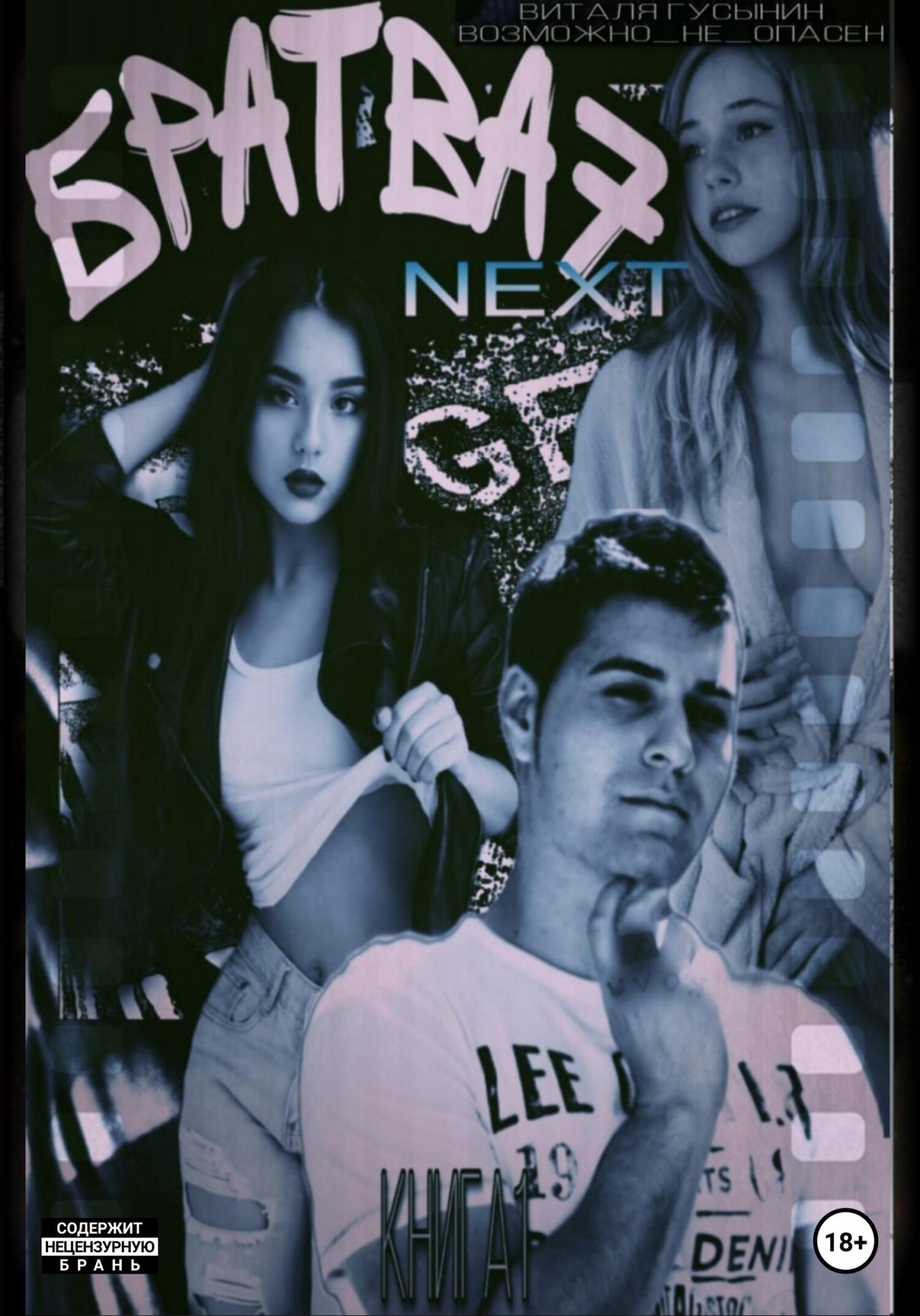Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
проявляли ко мне сексуальный интерес, хотя я была молода и, думаю, достаточно хороша собой. Проблема заключалась в моей по-собачьи слепой преданности. Этот писатель был, конечно, невыносимый эгоист, к тому же лжец, и даже не самый талантливый; мне же предстояло провести вечер в Париже в одиночестве, дома меня ждали недовольный муж и ребенок, и я так жаждала любви, что была готова пить из любого источника. Правда, Джефферс, я была собакой – внутри меня была такая тяжесть, что я могла только корчиться, как корчится от боли животное. Эта тяжесть пригвождала меня ко дну, и я билась и боролась, пытаясь выплыть на блестящую поверхность жизни – по крайней мере, так мне казалось снизу. Перемещаясь из бара в бар по ночному Парижу в компании писателя-эгоиста, я впервые намекнула на перспективу всё разрушить, разрушить то, что построила; не ради него, уверяю тебя, но ради возможности, которую он воплощал и которая никогда не приходила мне в голову до той ночи, – возможности резкой перемены. Эгоист, опьяненный собственной важностью, думая, что я не смотрю, тихонько брал сухими губами мятные леденцы и безостановочно говорил о себе: он не смог меня одурачить, хотя, надо признать, я этого хотела. Я запросто могла бы его повесить – он дал мне достаточно длинную веревку, – но, конечно же, не повесила его, а подыграла, даже частично поверив в это сама, – ему снова улыбнулась удача, которая явно сопутствовала ему всю жизнь. Мы попрощались в два часа ночи у входа в отель, где он – это было настолько очевидно, что выглядело прямо-таки недостойно, – решил, что ночь, проведенная со мной, не стоит риска подорвать статус-кво. И я легла в кровать и наслаждалась воспоминаниями о его внимании до тех пор, пока не почувствовала, что крыша отеля слетела, а стены рухнули и меня встречает необъятная звездная тьма, отражающая то, что я чувствую.
Почему мы так старательно живем вымыслами? Почему так страдаем от того, что сами изобрели? Ты не знаешь, Джефферс? Всю жизнь я хотела быть свободной и не смогла высвободить даже мизинца. Думаю, Тони свободен, хоть его свобода на вид совершенно непримечательна. Он садится в свой синий трактор и косит высокую траву, которая должна быть убрана к весне, и я наблюдаю, как он в своей большой широкополой шляпе ездит туда-сюда под шум двигателя. Всюду вокруг него расцветают вишневые деревья, маленькие узелки на ветках набухают и распускаются для него, жаворонок взмывает в небо, насвистывая и кружась, как акробат, когда он проходит мимо. А я в это время сижу без дела и смотрю перед собой. Всё, в чем мне удалось достичь свободы, – это избавиться от людей и вещей, которые мне не нравятся. А потом ничего особо и не осталось! Когда Тони работал в саду, я вставала приготовить для него еду, ходила собирать травы и приносила картофель из сарая. В это время года – весной – картофель, хранящийся в сарае, начинает прорастать, хотя мы храним его в полной темноте. Картофель выбрасывает белые плотные ростки, потому что понимает, что сейчас весна, и иногда я смотрю на одну картофелину и думаю: она знает больше, чем большинство людей.
Утром после той ночи в Париже, когда я встала и пошла гулять вдоль реки, я почти не чувствовала землю под ногами: зеленая блестящая вода, обшарпанные наклонные стены из светло-бежевого камня, раннее солнце, освещающее эти стены и меня, – всё вместе это создавало эффект такой легкости, что я чувствовала себя невесомой. Интересно, похоже ли это на чувство, когда тебя любят, – я говорю о по-настоящему важной любви, той, что получаешь еще до того, как, собственно говоря, начинаешь осознавать себя. В тот момент мне казалось, что я в абсолютной безопасности. Интересно, что именно из увиденного заставило меня чувствовать себя таким образом, когда на самом деле я была далеко не в безопасности? Когда в реальности я мельком увидела зародыш возможности, которая вскоре разрастется и заполнит всю мою жизнь, как рак, поглощая годы, поглощая суть; когда через полтора часа я буду сидеть напротив самого дьявола?
Должно быть, я бродила довольно долго, потому что, когда вернулась на улицу, магазины были уже открыты и в солнечном свете по улице двигались люди и машины. Я была голодной и начала разглядывать витрины в поисках места, где можно поесть. Я не умею справляться с подобными ситуациями, Джефферс: мне трудно удовлетворять собственные потребности. Видя, как другие люди толкаются и требуют то, что им нужно, я решаю, что как-нибудь обойдусь. Я остаюсь на месте, испытывая стыд за потребности – свои и чужие. Звучит нелепо, и я всегда знала, что в кризисной ситуации меня растопчут первой, хотя замечала, что дети тоже так себя ведут и считают потребности собственного тела постыдными. Когда я говорю Тони, что пойду ко дну первой, потому что не стану драться за свою долю, он смеется и говорит, что так не думает. Неужели я так мало знаю саму себя, Джефферс?
В общем, в то утро в Париже было малолюдно, и на улицах, по которым я ходила, где-то возле Рю-дю-Бак, совершенно негде было купить поесть. Вместо еды в магазинах продавались экзотические ткани, антиквариат и диковины колониальной эпохи, стоящие как зарплата обычного человека за несколько недель, и пахло от них так, как, полагаю, пахнут деньги, и я шла и смотрела на витрины, будто обдумывая в столь ранний час покупку огромной резной деревянной головы африканской работы. Улицы были равномерно погружены то в свет, то в тень, и я шла без цели и направления, стараясь оставаться на солнце. Вскоре я увидела установленный на тротуаре рекламный щит с какой-то репродукцией. Это была репродукция картины Л, Джефферс, и она была частью афиши к выставке его работ в галерее неподалеку. Даже издалека я узнала в ней что-то знакомое, хотя до сих пор не могу сказать что: хоть я и слышала об Л, я не помнила, что именно слышала и когда, и не знала ни кто он, ни что он пишет. Тем не менее он заговорил со мной: он обратился ко мне на этой парижской улице, и я последовала за рекламными щитами, от одного к другому, пока не подошла к галерее и не зашла прямо в открытую дверь.
Тебе будет интересно, Джефферс, какая картина была выбрана для афиши и почему она подействовала на меня таким образом. На первый взгляд нет причины, по которой работа Л должна привлечь внимание такой женщины, как я, да и вообще любой женщины – и менее всего, конечно, внимание молодой матери на грани бунта, чье невозможное томление должно было проявиться еще сильнее под воздействием ауры абсолютной свободы, которую создают его картины, свободы стихийно и беззастенчиво мужской вплоть до последнего мазка. Это вопрос, ясного и удовлетворяющего ответа на который всё еще нет – можно разве что сказать, что аура мужской свободы также присуща большинству представлений о мире и о человеческом опыте в нем и что как женщины мы привыкаем переводить ее в нечто узнаваемое для себя. Мы достаем словари и ищем решение, пропускаем те фрагменты, которые не можем проинтерпретировать или понять, и те, на которые, как мы знаем, у нас нет права, и voilà! – тоже становимся частью этого опыта. Мы заимствуем чужой наряд, а иногда прибегаем к откровенному подражанию; и поскольку я никогда не чувствовала себя такой уж женственной, я считаю, что привычка подражать вошла в меня глубже, чем в других, до такой степени, что некоторые мои черты кажутся мужскими. Дело в том, что с самого начала я усвоила, что всё было бы лучше – правильнее, так, как должно быть, – родись я мальчиком. Тем не менее в тот период, о котором я тебе расскажу, я так и не нашла применения этой мужской части себя, как позже показал мне Л.
Картина, кстати говоря, была автопортретом, одним из тех завораживающих портретов, где он изображает себя с того расстояния, на котором мы обычно держимся от незнакомца. Кажется, будто он почти не ожидал увидеть себя: он смотрит на этого незнакомца взглядом объективным и бесчувственным, как прохожий
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34