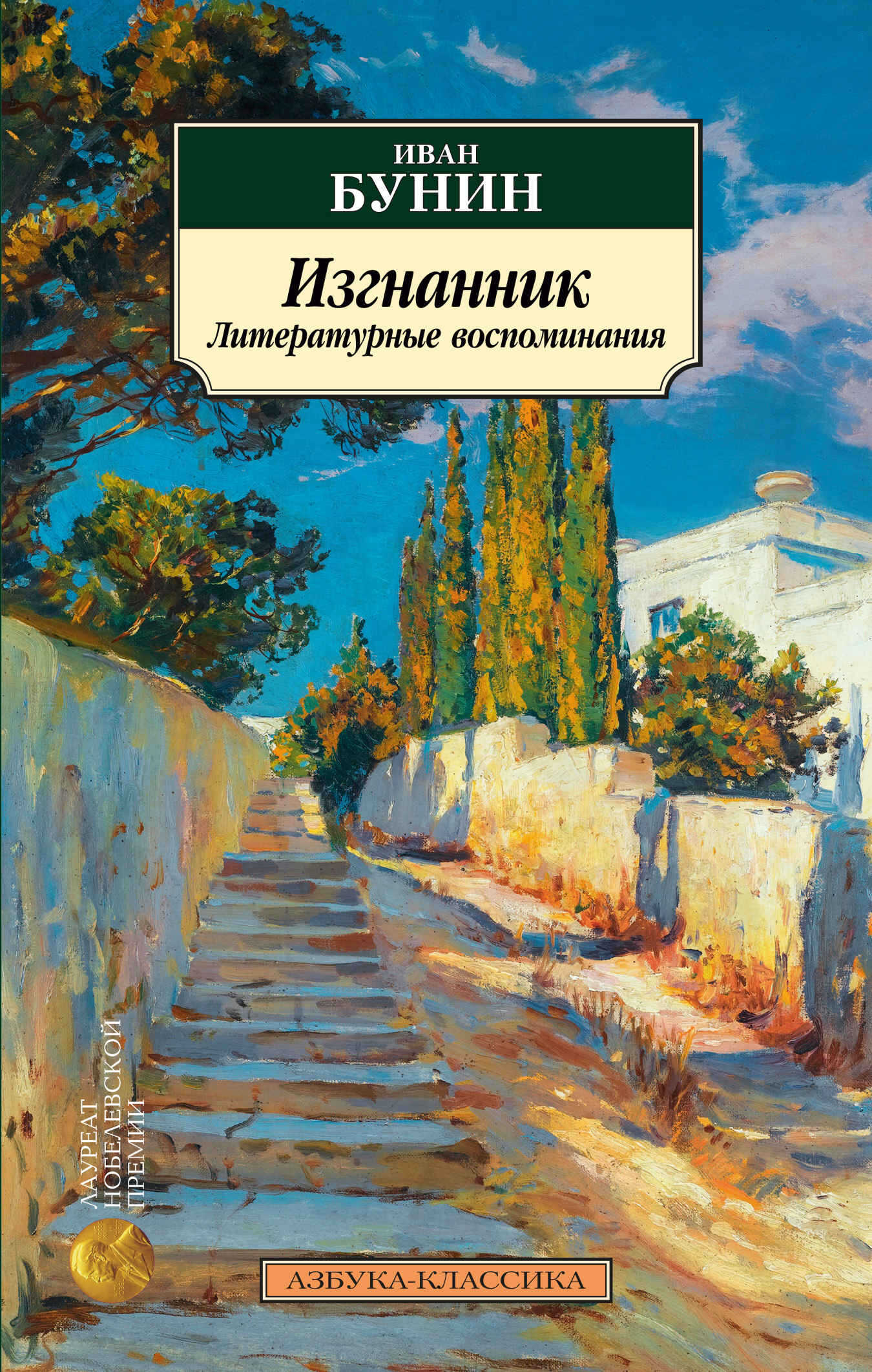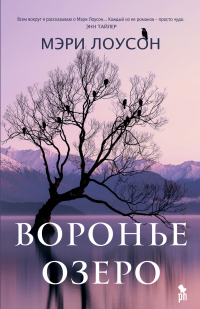с непонятным, угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота: край земли и кромешная тьма, крепко дует пахучим туманом и холодом волн, шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора… Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробно и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное…
XVI
Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущеньем: во-первых, отец запродал Батурино, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно… Я на мгновение вспыхнул от радости, – опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, – но тотчас же это чувство сменилось болью: значит, совсем конец всей нашей прежней жизни! – и горькой жалостью к отцу, к матери, к Оле: мы тут веселы, беспечны, у нас весна, люди, город, а они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности… Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти, не мог слушать его оправданий в том, что он «пустил нас по миру»: я в такие минуты всегда готов был кинуться руки его целовать даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же, после Севастополя, едва удержался от слез… К счастью, оказалось, что он запродал только землю, без усадьбы.
А вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее: «Прости, что я скрывал это, я не хотел и теперь не хочу, чтоб об этом знали наши… Дело в том, что я женат… Не церковно, конечно, – она даже продолжает, ради ребенка, жить вместе с мужем, – но ты понимаешь меня… Теперь она в Харькове, завтра уезжает… Переодевайся и пойдем сейчас к ней, она тебя знает и заранее любит…»
И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семья, но росла в страстных свободолюбивых и народнических мечтах, рано вышла замуж, чтобы начать «рука об руку с любимым человеком» жить только для народа, в борьбе за народ… «Любимый человек», став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям, меж тем как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее, счастливую, такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались… С братом она встретилась на юге, – он тогда скрывался, жил под чужим именем… Поняв свою любовь к нему, она в отчаянье кинулась в море, спасена была только случайно, рыбаками…
Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата, во мне росла враждебность к его героине, – уж слишком все это было романтично. Однако я был удивлен еще более, едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо, легко заговорила! Во всей милой простоте ее обращенья была тонкость породы, воспитанья, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть, в движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически-изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, – необъяснимое очарование…
И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким со всей своей молодостью среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь, разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну, что ж, тем лучше для меня, я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне…» Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, – наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были Святополки и Игори, печенеги и половцы, – меня даже одни эти слова очаровывали, – потом века казацких битв с турками и ляхами, Пороги и Хортица, плавни и гирла херсонские… «Слово о полку Игореве» сводило меня с ума:
«Хощу бо, рече, копие преломити конець поля Половецкого с вами, Русици… Не буря соколы занесе чрез поля широкая; галици стады бежать к Дону великому… Комони ржуть за Сулою; звенить слава в Кыеве; трубы трубять в Новеграде; стоять стязи в Путивле… Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; нощь стонущи ему грозою птичь убуди… Див кличеть врьху древа, велить послушати земли незнаеме, Влъзе и Поморию, и Посулию, и Сурожу…»
«Кричать телегы полунощи, рци лебеди распущени, Игорь вои к Дону ведеть… Орли клектом на кости звери зовуть, лисици брешуть на чръленые щиты… О Русьская земле! уже за шеломянем еси…»
«Другого дни велми рано кровавыя зори свет поведають; чръныя тучя с моря идуть: в них трепещут синия молнии, быти грому великому, идти дождю стрелами…»
И потом:
«Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»
«Святъслав мутен сон виде: в Кыеве на горах си ночь с вечера одевахуть мя, рече, чорною наполомою, на кровати тисове. Черепахуть ми синее вино с трудом смешено…»
«Прысну море полунощи… Игореви князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русьскую, к отню злату столу. Погасоша вечеру зори: Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслию поля мерить от Великого Дона до Малого Донца…»
И вскоре я опять пустился в странствия. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь «горностаем в тростник, белым гоголем на воду»; потом был на Днепре, как раз там, где «пробил он каменные горы сквозь землю Половецкую», плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву – и как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? «Солнце светится на небеси, Игорь князь в Русьской земли! Девици поють на Дунаи. Вьются голоси через море до Кыева…»
А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. «Седлай, брате, свои борзыи комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска напереди…» Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого: в те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был «Курськ» только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был, верно, и того скучней! Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда на ранней степной заре, на земляной стене, убитой кольями, слышен был «Ярославнин глас»?
«Ярославна рано плачет Путивлю городу: полечю, рече, зегзицею, омочю бебрян рукав в Каяле реце, утру князю кровавые раны его…»
XVII
Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда: кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщенна, мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным – так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней…
Короче сказать, по пути я заехал в Орел.
Тут я почувствовал свои странствия почти конченными: еще несколько часов – и я в Батурине. Оставалось только взглянуть на самый Орел – город Лескова и Тургенева – да узнать наконец, что же такое