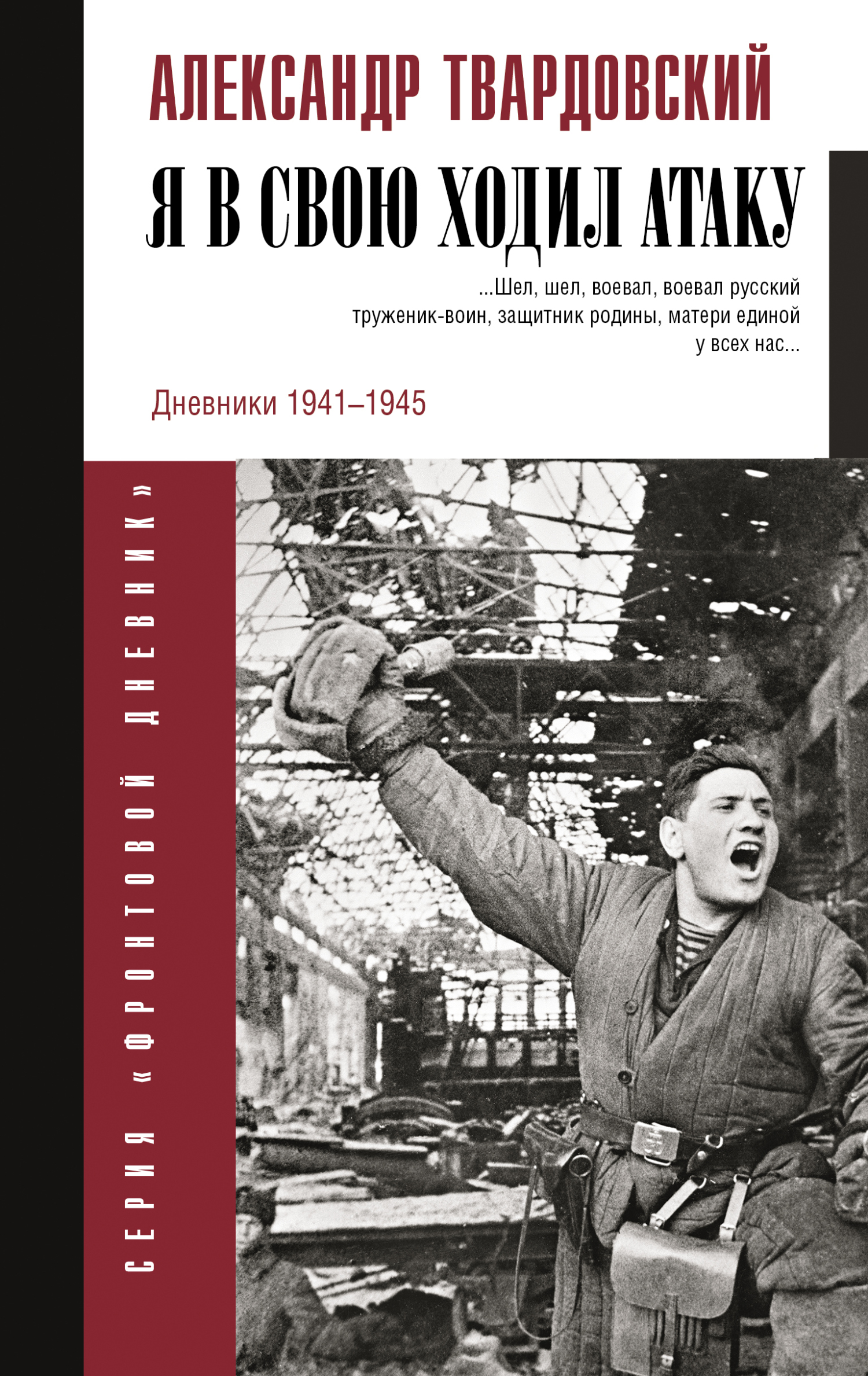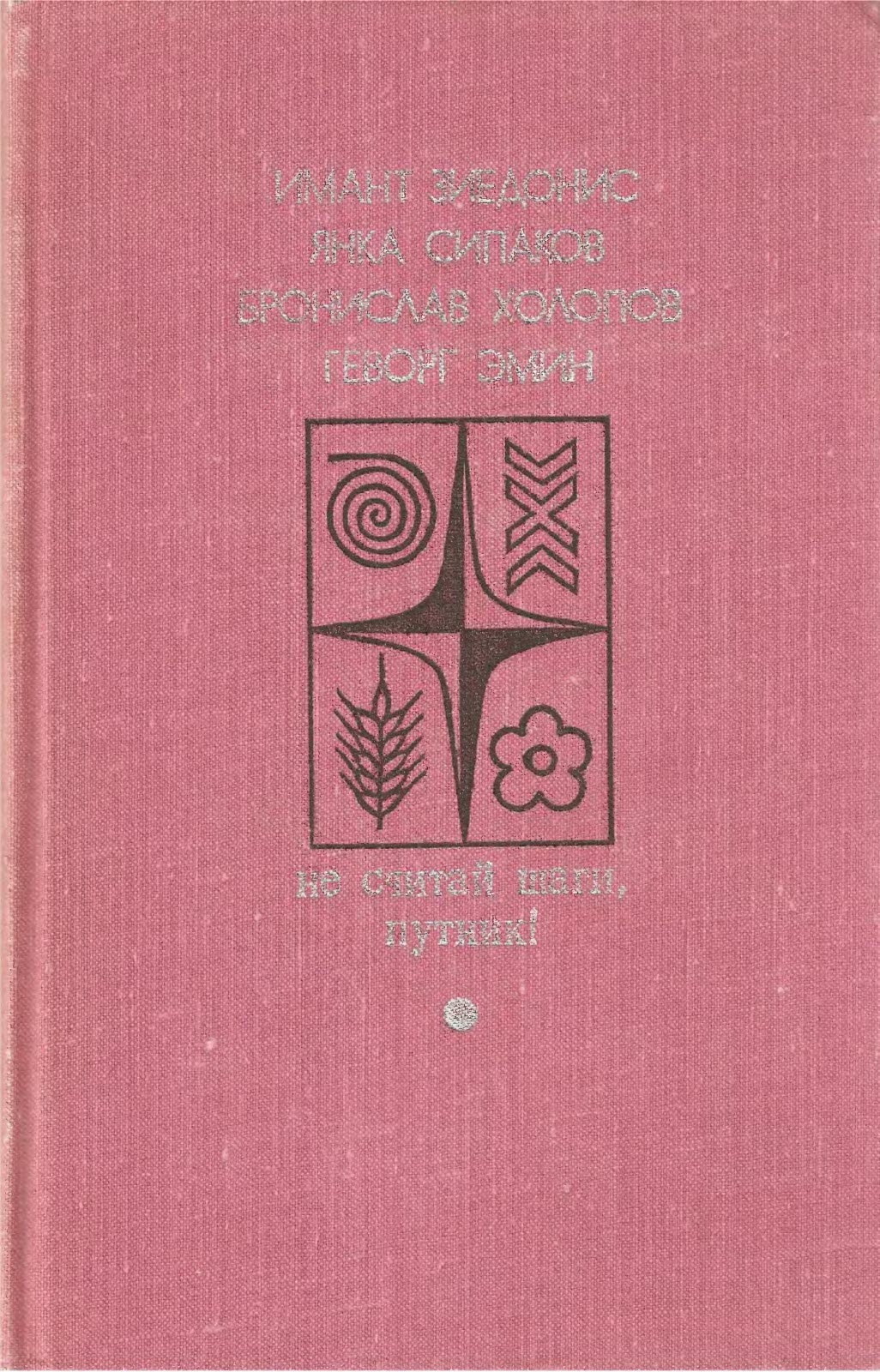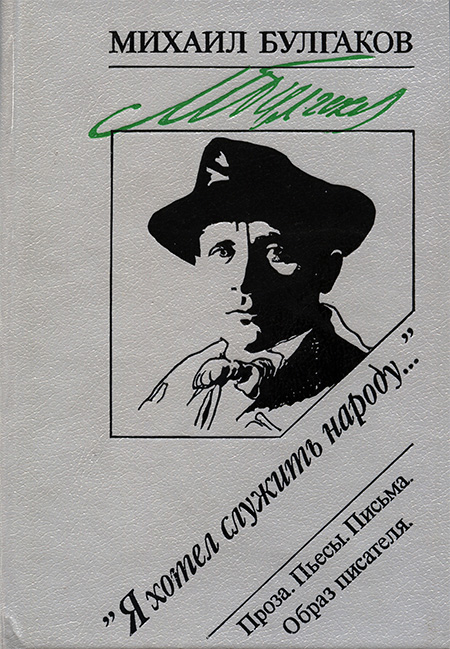одиноко девки.
Денег ждут суровые отцы,
Ждут подарков матери родные,
Но везут почтовые гонцы
Только письма, письма доплатные…
В скобках заметим: образ этого унылого деревенского малолюдья и девичьего одиночества как-то неожиданно смыкается с той картиной, что рисуют материалы недавних лет об убыли сельского населения на Смоленщине. Тут, однако, та разница, что нынче сбежавшие в города женихи не только не намерены «считать шпалы» в направлении к дому, но заражают своим примером и невест, а то и суровых отцов и матерей родных, которые вслед за детьми подаются на городские хлеба. Времена иные, и как все по-разному, в сущности, при внешней похожести явлений.
Тема переселенчества получает еще один горько-иронический поворот в стихах о конечном «переселении» со скупой на урожай земли в ее же лоно, то есть на погост.
Жизнь не всех лелеет под луной.
И, глаза накрывши полотенцем,
Каждый год — и летом и зимой —
Шли и шли сюда переселенцы.
Каждый год без зависти и зла
Отмерялись новые усадьбы,
И всегда сходилось полсела
Провожать безрадостные свадьбы.
…………………………………………
И земля, раскрыв свои пласты,
Им приют давала благосклонно.
Но не «без зависти и зла» шли споры за землю, которая «пришла» наконец с революцией. Правда, та же тема земли, представлявшей всю вкупе неразрешимую сложность и муку крестьянского бытия в прошлом, теперь уже проецируется и в плане новых суждений и предположений пооктябрьской деревни:
Земля! Да нету с ней порядка,
И нет, и не слыхать…
А может, правда, — в том разгадка,
Чтоб сообща пахать?
Поэт еще неоднократно и настойчиво будет обращаться к этой теме, казалось бы, уже заслоненной материалом новой действительности, и эта настойчивость, некогда смущавшая даже благожелательных критиков Исаковского, теперь представляется вполне оправданной и органичной. Это была внутренняя необходимость для певца новой деревни досконального сведения счетов с прошлым на пороге нешуточного переворота всего уклада жизни» традиций, вековых привычек и навыков. Поэт взыскательно всматривается в минувшее, закрепляя память пережитого им вместе с народом, чтобы убедиться окончательно перед неясным еще и тревожным будущим, что, во всяком случае, оставшегося позади жалеть нечего и цепляться там не за что. Но, как почти всякое прощание, и прощание с отжившим и безрадостным миром старой деревни не может быть легким. Где-то еще в Библии сказано, что и пепелище костра, у которого путник провел ночь, он покидает с грустью, но это чувство не может остановить его в намеченном пути.
Мотивы прощания с прошлым в поэзии Исаковского не ограничиваются стихами с заголовками и подзаголовками «Минувшее», «Из прошлого», «Из старых тетрадей», — они живут и в его вещах, посвященных самому разрыву крестьянской души с этим прошлым. И нет ничего странного в том, что музыка и здесь не плясовая, хотя прощание здесь с «хуторской Россией», оставляемой навсегда, ради лучшей жизни.
В этой сумрачной хате
для меня ничего не осталось,
Для моей головы
эта темная хата низка…
Здесь у каждой стены
приютились нужда и усталость,
В каждой щели шуршит
тараканья тоска…
И естественно, что в цитируемой «Поэме ухода» куда сильнее и безусловнее выражено то, с чем человек прощается, чем то, ради чего он прощается. Для выражения безысходной мужицкой тоски поэт располагает неограниченным запасом непосредственных впечатлений собственного детства и юности, а также всеми мощными средствами самой народной поэзии и языка, несущих в себе врубившиеся в память, лаконичные и неотразимые формулы, добытые многовековым опытом страданий и поисков.
Но когда он подходит в этой поэме к рубежу, за которым — новая, сулящая свет и радость жизнь на родной земле, новизна эта, еще не взрастившая в народном сознании таких доводов, таких формул в пользу ее, которые бы не уступали по силе выражения прежним, — новизна эта иногда предстает в некотором напряжении и декларативности.
Точно так же и в «Разговоре с лошадью», датированном уже 1932 годом, покамест он касается древней трудовой дружбы мужика и коня, со всеми положенными на их долю испытаниями, — тут и незаменимость слов, и верность интонации:
Сколько лет мы тащили свой воз неуклюжий
В стороне от прямого пути!
И всегда, понимаешь,
Возвращались к тому же,
От чего собирались уйти.
…………………………………………
Трудно было забыть свой соломенный остров,
Трудно было с мужицкою спорить судьбой,
Если, кроме церквей, кабаков и погостов,
Ничего мы не знали с тобой.
А когда речь доходит до «колхозной конюшни», тут не обходится без декларативности, доводов и утверждений, близких газетной передовице: «высокое солнце», «просторный прославленный век, о котором все лучшие люди мечтали», и т. п.
В поэме «Четыре желания», самой крупной по объему вещи Исаковского, где рассказывается о неисполнившихся при жизни батрака Степана Тимофеевича его мечтах купить сапоги, прокатиться по железной дороге, жениться на любимой девушке и выучиться грамоте, чтобы прочесть «справедливую книгу», — горечь этой судьбы, обманутых надежд забитого жизнью человека выражены в стиле своеобразной народной притчи. Здесь получает наиболее полное выражение давняя тема Исаковского, исподволь пробившаяся во многих отдельных стихотворениях («На смерть соседа», «Разговор с лошадью», «На реке», «Об отце»). Эта тема непримиримости поэта с мыслью о бесследности, безгласности жизни на земле поколений ее тружеников, низведенных бесправием, невежеством и нуждой до уровня бессознательных существ, причем не отмечающих свой срок пребывания в мире. Судьба отцов и дедов предстает здесь уже не только в плане социальных претензий и счетов народа, но и неисчислимых духовных потерь, понесенных им в условиях многовекового существования вне исторической жизни. И слово поэта, обращенное к памяти поколений людей труда, безгласно ушедших из мира, не дождавшихся светлой поры, когда найдена «справедливая книга» о правах тружеников земли на счастье, приобретает силу скорбно-торжественного призывного заклинания:
Вставай же, Степан Тимофеевич!
Вставайте, раздетые, босые,
Чьи годы погибли бесследно,
чьи жизни погасли во мгле,
Чьи русые кудри не чесаны,
чьи темные хаты не тесаны,
Чьи белые кости разбросаны
по всей необъятной земле…
Правда, пафос утверждения нового, что пришло к нынешним труженикам колхозных полей — наследникам всех тех бесследно ушедших поколений, — носит более словесный характер, близкий ораторской речи с присущими ей