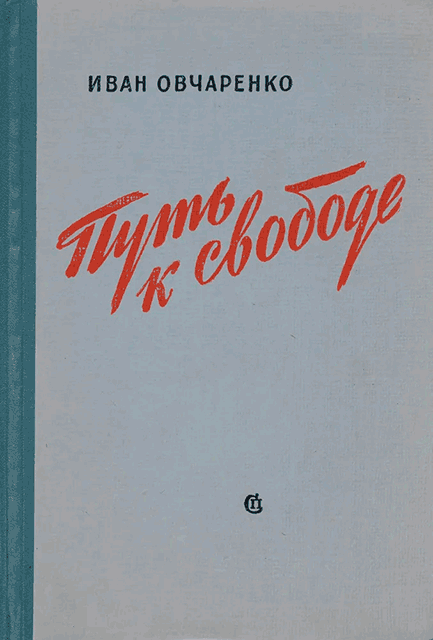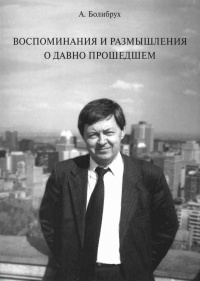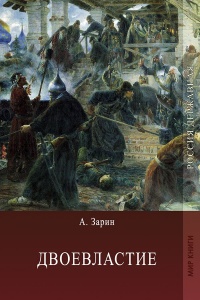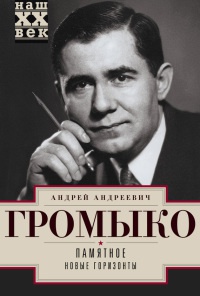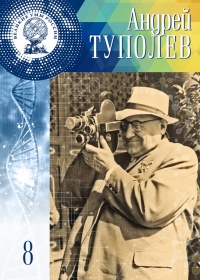день разрушения от атомной бомбы будут настолько ужасны, что остановят не только советского агрессора, но и западноевропейского регрессора. Таким образом, войны я не боюсь, но что меня беспокоит, это – летающие блюдца. Откуда они? И что это такое? Действительно, с Марса, или, может быть, из Советской России? Сказать по правде, в Марс я особенно не верю. Хотя где-то читала, что в Восточной Германии какой-то бургомистр видел в лесу спустившееся блюдце, из которого вылезло два марсианина с глазами, похожими на темные очки без оправы, однако едва ли марсиане стали бы портить свою репутацию, отправляя сюда какие-то блюдечки вместо колоссальных воздушных кораблей. Безусловно, это военное изобретение большевиков: сначала в артиллерии были чемоданы, потом – стаканы от шрапнелей, ну а теперь – блюдца придуманы. Вообще, техника так движется вперед, что под конец для военных целей будут целые сервизы летать, и никакая интеллидженс сервис не откроет этих секретов. Простите, вы что сказали? Фррр…? Имеете в виду, должно быть, Фарука[555]? О, то действительно, жуткая история: египетская бескровная революция!
Я ничего в мире так не боюсь, как бескровных революций. Слава Богу, по нашей революции хорошо научилась. Вот, когда где-нибудь в Южной Америке происходит восстание, и сразу несколько человек убивают нарочно или случайно, я спокойна: пройдет два, три дня, и все образуется. Но когда свержение власти происходит бескровно, тут-то и надо ждать осложнений. Никто никого не убил, никто никого не зарезал… Какое же положение создается? Народ не удовлетворен, новой власти никто не боится, авторитета у нее – никакого… И тут начинается углубление. Вы что? Почему взялись за бок? Кольнуло в печени? Смотрите, дорогой мой, не запускайте. Я вам пришлю из Парижа чудесный рецепт. Мы все целой семьей принимаем и чувствуем себя превосходно. А пока принимайте больдо[556]. Кстати, бросьте докторов, лечитесь у гериссеров[557], или, еще лучше, – у радиостезистов[558]. Радиостезия – это безусловно наука будущего. Какие чудеса: радиостезисту не нужно анализов, не нужно выслушиваний, выстукиваний, измерений давления. Водит по вашему телу маятником и все узнает до мельчайших деталей. Даже то, что вы не подозреваете и всю жизнь не будете подозревать… Стойте, стойте. А который час? Что? Половина пятого? Господи, пропустила свой поезд. Ужасно! Что значит давно не виделись, столько надо было друг другу сказать. Ну, до свидания, дорогой. Я им все-все расскажу. Побегу, может быть, найду подходящий автобус!
* * *
Я вздохнул. Выпил воды. Пришел в себя. Взялся, наконец, за работу.
А через две, три недели стал получать из Парижа от друзей тревожные письма.
София Александровна пишет:
«… Екатерина Ивановна рассказала нам подробности о вашем житье-бытье. Что же это вы стали так рано сдавать? И почему начали заикаться? Я уверена, что, если вы обратитесь к хорошему врачу, можете прекратить эти явления. А пока вылечитесь, когда вам понадобится сказать что-нибудь важное своему собеседнику, то не стесняйтесь и пойте. Вы, конечно, знаете, что при пении заикание прекращается. Екатерина Ивановна, чтобы добиться от вас хотя бы нескольких слов, хотела предложит вам спеть ваш ответ, но не решилась: чтобы не обидеть. Помните, дорогой мой, что подобной болезни стыдиться нечего: пойте, и дело с концом. А доктор тем временем вас вылечит впрыскиваниями; должно быть, пенициллин поможет.
Екатерине Ивановне не нравится также, что у нас все время вытянутое лицо и мрачное подавленное состояние духа. Глаза усталые, часто слипаются; на лице выражение тревоги, безотчетного страха. В чем дело? Приободритесь, голубчик, не поддавайтесь ипохондрии и принимайте жермалин[559] из зародышей пшеничных зерен. Действует жермалин замечательно, дает силы, бодрости, и сразу вызывает прилив оптимизма. Ну, пока желаю всего хорошего. Теперь буду писать часто, чтобы следить за вашим здоровьем…»
А Георгий Александрович, судя по его письму, не на шутку встревожился:
«Дорогой друг! – пишет он. – Я с грустью узнал от Екатерины Ивановны, что вас все время болезненно мучит загадка о летающих блюдечках и не дает возможности думать о чем-нибудь другом. Бросьте, милый, всю эту чепуху, не волнуйтесь раньше времени и отвлекайте внимание чем-нибудь более радостным. Ходите в театр, гуляйте побольше на чистом воздухе и питайтесь, как следует. В крайнем случае, если ваши блюдца примут угрожающую форму, обратитесь сюда, в Париж, к нашему общему милому другу профессору Агаджаняну, который только что выпустил свой последний объемистый труд „Физиопатология механизма восприятий и их ассоциаций в связи с развитием галлюцинации и бреда“. Он не откажет дать вам необходимые указания. Желаю всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Ваш…
П. С. Спешу, между прочим, обрадовать: на днях выезжает в ваш город милейшая Надежда Николаевна. Она чрезвычайно словоохотлива, и, наверно, очень вас развлечет».
«Россия», рубрика «Маленькие рассказы», Нью-Йорк, 1 октября 1952, № 4965, с. 3–4.
Чествование
Давненько не видел я Николая Петровича. Знакомы мы с ним еще с Петербурга, где был он перед революцией молодым профессором международного права. Поселился Николай Петрович в одном провинциальном французском городке, живет там тихо, мирно, пишет свои мемуары. До последнего времени, не смотря на свой преклонный возраст, чувствовал себя бодро, ничем не хворал.
И, вдруг, расклеился человек. Выслали его врачи к нам, на юг, подлечиться и переменить климат.
Встретились мы с ним, конечно, радостно, дружески. И начал я допытываться; почему такая перемена? Почему похудел? Побледнел? Ослабел?
– Может быть, диабет? – спрашиваю.
– Нет.
– Уремия?
– Нет…
– Какое-нибудь несчастье случилось?
– Несчастье не несчастье, вроде: наша русская колония юбилей мне устраивала.
И Николай Николаевич поведал жуткую историю, происшедшую с ним недавно, в начале осени.
* * *
– Мне неизвестно, – грустно заговорил он, – кто из членов русской колонии узнал, что в сентябре этого года исполняется пятидесятилетие моей профессорской деятельности. Кажется – наша дама-патронесса Екатерина Иосифовна, которая всегда первая узнает все: и то, что было, и то, чего не было. Приходит она ко мне в конце лета и торжественно заявляет, что обращается от имени всех моих почитателей. Почитатели эти относятся ко мне с огромным уважением, с любовью, считают меня гордостью эмиграции, светочем, одним из замечательных последних могикан старой России, – и потому обязательно хотят почествовать меня, устроить мне юбилей.
Екнуло у меня сердце от предчувствия какой-то беды. Что-то даже похолодело внутри. Но, сами знаете, – все мы люди, все человеки. Каждому приятны знаки внимания. Из деликатности запротестовал я сначала, ответил, что не считаю себя светочем, что наверно моего Учебника международного права никто в нашей колонии никогда в жизни не видел; что если и принадлежу я к могиканам, то вовсе не замечательным, а заурядным… Но протестовал я, конечно, слабо, нерешительно. В конце концов согласился…
– И, вот, тут-то и началось. – Николай Петрович вздохнул,