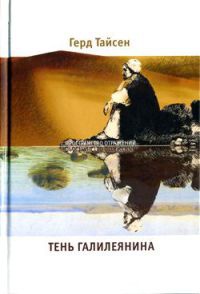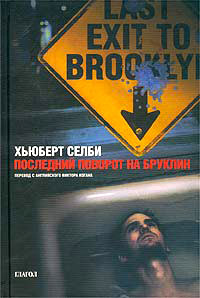Сначала я была просто шокирована — главным образом потому, что она употребила выражение «к чертовой матери». Она всегда старалась быть леди — перед всеми, даже передо мной. Позднее я пыталась понять, что имелось в виду, и когда она сказала: «Если бы не я, тебя бы здесь не было», — я попросту не поверила.
Мое обжорство было не только вызовом, но и реакцией на страх. Иногда мне начинало казаться, что меня вообще нет, ведь я — случайность; я слышала, как мать назвала меня случайностью. Думаю, мне хотелось обрести твердую форму — твердую, как камень, чтобы от меня нельзя было избавиться. Что я им сделала? Стала ли я ловушкой для своего отца, если он действительно мой отец, испортила ли жизнь матери? Я не осмеливалась спросить.
Какое-то время я мечтала стать оперной певицей. Они хоть и толстые, а все равно носят пышные костюмы, и никто над ними не смеется, наоборот — их любят и хвалят. К несчастью, я не умела петь. Но опера меня привлекала. Как прекрасно стоять на сцене и орать во весь голос про любовь и ненависть, гнев и отчаяние. Вопишь во всю глотку, а получается музыка. Это было бы что-то.
8
— Иногда мне кажется, что ты совсем дурочка, — говорила порой мать. Когда я плакала по идиотскому, с ее точки зрения, поводу. Она считала слезы явным признаком непроходимой тупости. Слезами горю не поможешь. Поздно плакать над пролитым молоком.
— Мне скучно, — отвечала я. — Не с кем играть.
— Играй с куклами, — советовала мать, подводя губы.
Что ж, я играла с ними, нейлоновокудрыми, лишенными мочеполовой системы, пластмассовыми богинями с открытым детским взглядом и гладкими, без сосков, грудками-выступами, которые напоминали коленки и не рождали ненужных мыслей. Я наряжала их для светских раутов, куда они так и не попадали, потом опять раздевала — и смотрела, смотрела, страстно желая их оживить. Они были непорочны, нелюбимы, обречены на одиночество: кукол-мальчиков в те времена не выпускали. Мои красавицы танцевали друг с другом или стояли у стенки в глубокой кататонии.
В девять лет я заговорила о собаке — прекрасно зная, что ее не купят, но рассчитывая получить хотя бы котенка; у знакомой девочки в школе кошка принесла целых шесть котят, причем один был семипалый.
Именно о нем я и мечтала. То есть на самом-то деле я мечтала о маленькой сестричке, но это было совершенно исключено, и даже я это понимала; слышала, как мать говорила кому-то по телефону, что и одного ребенка более чем достаточно. (Почему ей было так плохо? Почему я никогда не могла ее порадовать?)
— Кто будет его кормить? — спросила мать. — Трижды вдень?
— Я, — ответила я.
— Ты не сможешь, — сказала мать, — ты ведь не приходишь домой на ланч. — Действительно, ланч я брала с собой в специальной коробочке.
Котенок царапал бы мебель, и его требовалось приучать к ящику. Я стала просить черепашку; казалось бы, что плохого в черепахе, но мать сказала, что от нее будет запах.
— Нет, не будет, — возразила я, — у нас в школе есть черепаха, от нее совершенно не пахнет.
— Они теряются за шкафами, — сказала мать, — и умирают от голода.
Она не желала слышать ни о морской свинке, ни о хомячке, ни даже о птичке. После года неудач я загнала ее в угол — попросила рыбку. Он и не шумят, не пахнут, не имеют паразитов и всегда чистые; ведь рыбы, в конце концов, живут в воде. Я хотела аквариум с цветными камушками и миниатюрным замком.
Не придумав поводов для отказа, мать сдалась, и я купила в магазине «Крески» золотую рыбку.
— Она только погибнет, и больше ничего, — предостерегла мать. — Эти дешевые рыбки вечно чем-то болеют.
Когда рыбка прожила у меня неделю, мать снизошла до того, чтобы спросить, как ее зовут. Я сидела и, прижимая глаз к стеклу, неотрывно глядела на рыбку. Та плавала вверх-вниз, отрыгивая кусочки пищи.
— Сьюзен Хэйуорд, — ответила я. Совсем недавно мы с тетей Лу посмотрели «С песней в моем сердце» — фильм, где Сьюзен Хэйуорд поднимается с инвалидного кресла. У моей рыбки было мало шансов, и мне захотелось дать ей отважное имя. Но та все равно умерла; мать сказала, что я сама виновата — перекормила. Она спустила покойницу в унитаз, не дав мне оплакать ее и похоронить как положено. Я попросила новую рыбку, но мать сказала, что из произошедшего мне следовало бы извлечь урок. Всякое событие непременно должно было служить мне уроком.
Мать считала, что кино вульгарно, хотя, подозреваю, в свое время часто туда ходила; иначе откуда бы ей знать про Джоан Кроуфорд? Но на Сьюзен Хэйуорд меня водила тетя Лу.
— Ну, видишь? — сказала она после просмотра. — Рыжие волосы — это очень шикарно.
Тетя Лу была высокая, грузная, фигура — как на рекламе корсетов для зрелых женщин в каталоге «Итона», но ее это ни капельки не смущало. Она сворачивала седеющие желтоватые волосы в большой пучок на макушке, водружала сверху какую-нибудь невероятную шляпу с перьями и бантиками, прикрепляла ее жемчужной заколкой, надевала костюм из тяжелого твида, объемистую шубу — и казалась еще выше и толще, чем на самом деле. Одно из самых ранних моих воспоминаний: я сижу на ее широких, обтянутых шерстяной тканью коленях — эти колени были единственными, на которых я когда-либо сидела, причем мать всегда говорила: «Слезай, Джоан, не приставай к тете Луизе», — и глажу лисицу, висящую у нее на шее. Лиса была настоящая, коричневая и еще не такая шелудивая, какой стала позже, с хвостом и четырьмя лапками, с черными глазами-бусинами и прохладным пластмассовым носом; под ним, вместо нижней челюсти, имелась застежка, которая придерживала хвост. Тетя Лу, открывая и закрывая застежку, «разговаривала» за лису. Хитрое животное открывало всяческие секреты, например, где спрятаны леденцы, которые тетя Лу принесла мне в подарок, и задавало важные вопросы: скажем, что я хочу получить на Рождество. Когда я стала постарше, игра прекратилась, но лиса по-прежнему хранилась в шкафу, несмотря на то что вышла из моды.
В кино мы ходили очень часто. Тетя Лу обожала кино — особенно такое, где можно поплакать; без этого картина не могла считаться хорошей. У нее был свой рейтинг: фильм на два, три или четыре «Клинекса» — вроде звездочек в ресторанном гиде. Я тоже плакала, и эти праздники легитимных рыданий — самые счастливые мгновения моего детства.
Прежде всего восхищало, что я иду наперекор воли матери; хотя она сама меня отпускала, чувствовалось, что ей это не по душе. Затем мы ехали в кинотеатр на трамвае или на автобусе. Потом запасались в фойе бумажными носовыми платками, попкорном, конфетами и несколько часов сидели в приятной, мшистой темноте, набивая рты, хлюпая носами и глядя на большой экран, а перед нашими глазами, красиво страдая, проплывали величавые героини.
Я прошла все испытания вместе с милой, безропотной Джун Эллисон, вынужденной пережить смерть Гленна Миллера; съела три коробки попкорна за то время, что Джуди Гарланд мучилась с мужем-алкоголиком, и пять шоколадок «Марс», пока Элинор Паркер в «Прерванной мелодии» — где оперная певица становится калекой — мужественно брела по своему тернистому пути. Но больше всего мне нравились «Красные башмачки» с Мойрой Ширер — про балерину, которая разрывается между мужем и карьерой. Я ее боготворила: не только за рыжие волосы и восхитительные туфельки красного атласа, но и за очень-очень красивые костюмы; к тому же она страдала больше других. И чем мучительней были ее терзания, тем интенсивнее я работала челюстями — мне тоже хотелось всего этого: и танцевать, и быть замужем за красавцем-дирижером, всего сразу. А когда бедняжка бросалась под поезд, я так оглушительно всхрюкивала, что на меня возмущенно оборачивались даже те, кто сидел на три ряда впереди. На этот фильм тетя Лу водила меня четыре раза.