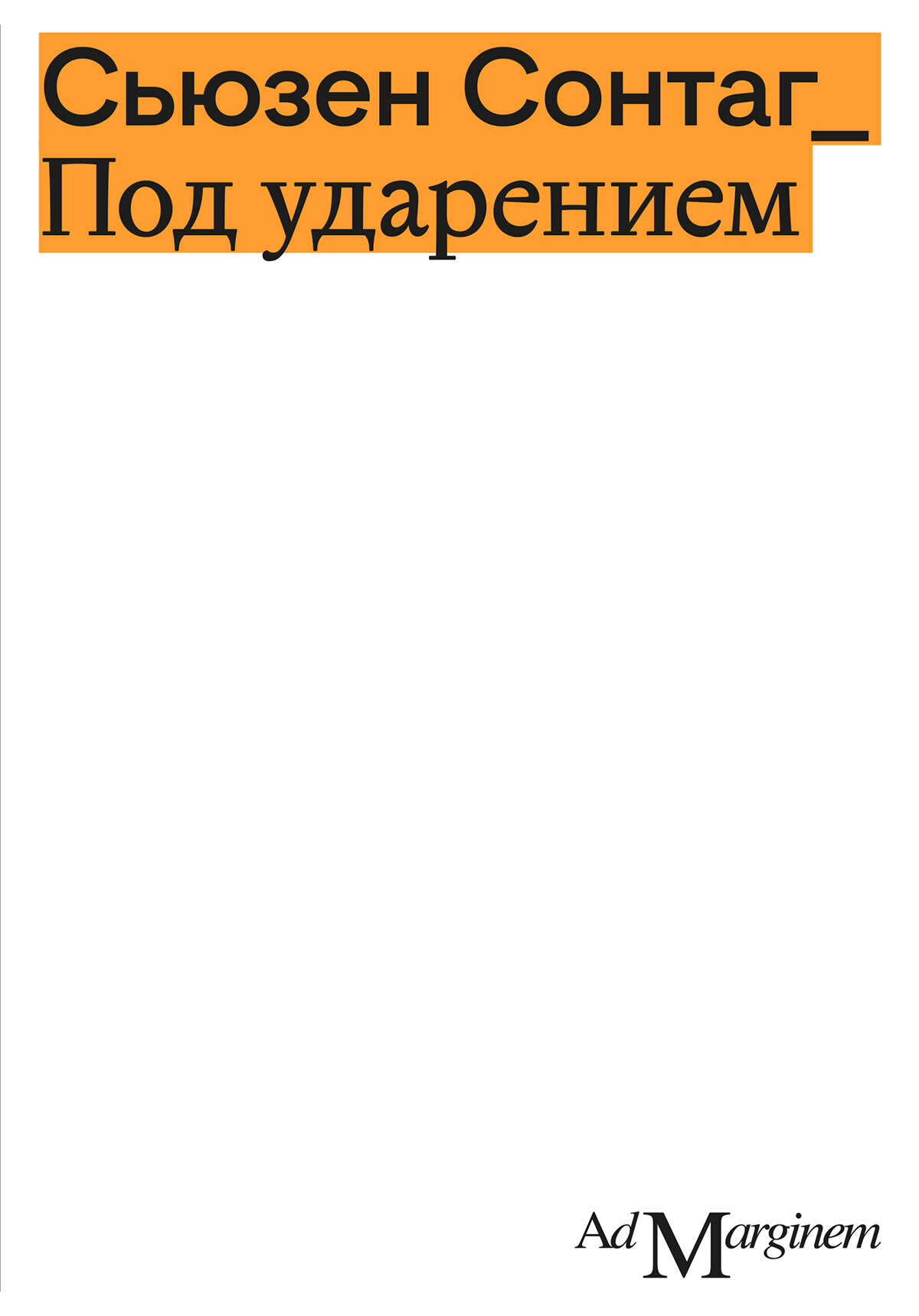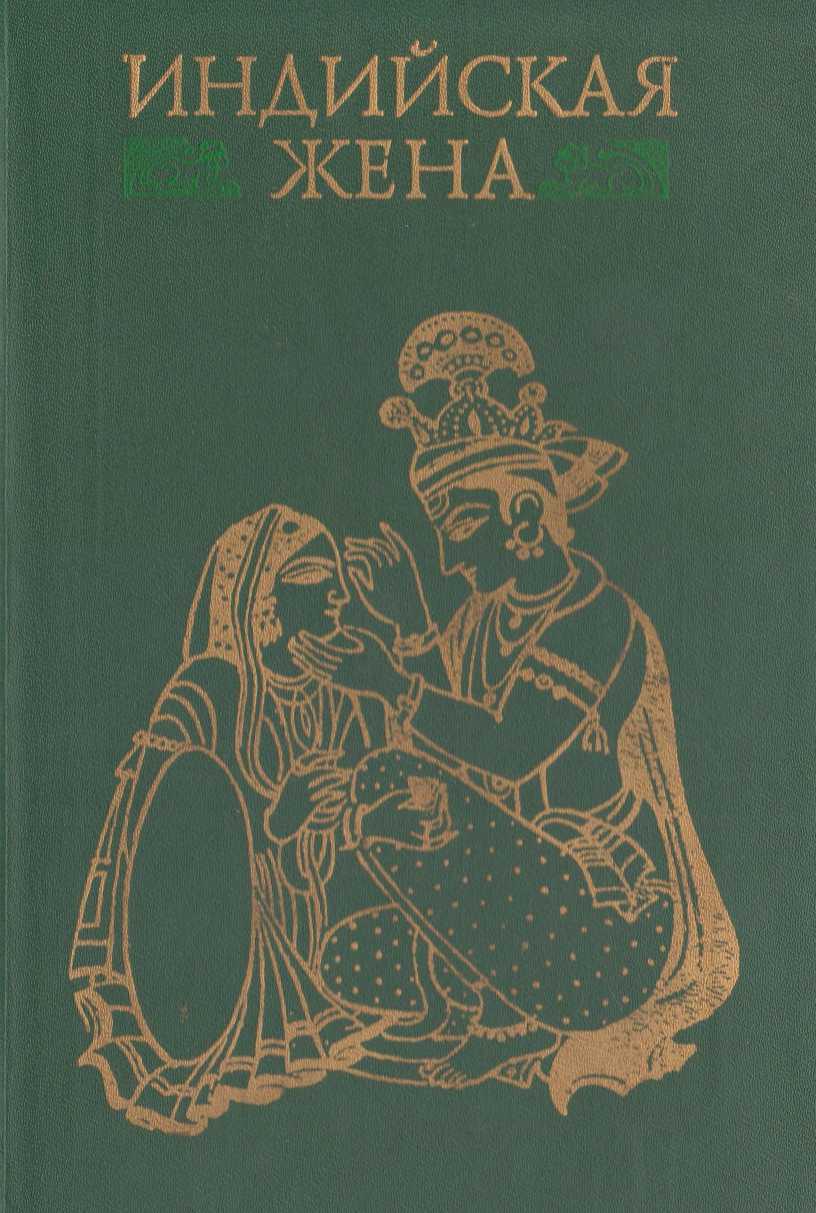уже нашли для себя новые иллюзии, новую ложь, которую образованные люди с благими намерениями и политики-гуманисты внушают себе и своим сторонникам, лишь бы не содействовать своим врагам.
Во все времена находились люди, готовые твердить, что истина иногда нецелесообразна, контрпродуктивна; что истина — это роскошь. (Это еще называют «мыслить практически», или «политически».) С другой стороны, желающие этому миру добра по весьма понятным причинам неохотно расстаются с союзами, убеждениями и институтами, в которые они вложили свой идеализм. Неизбежно возникают ситуации, в которых истина и справедливость кажутся несовместимыми понятиями. Осознание истины вызывает даже большее внутреннее сопротивление, чем признание требований справедливости. Для людей гораздо проще не видеть истины, особенно когда прозрение означает неминуемый разрыв с тем кругом людей, который составлял ценную часть их образа самих себя.
Иной путь возможен, когда человек узнает истину от кого-то, к чьему мнению он готов прислушаться. Как мог маркиз Астольф де Кюстин за время своей пятимесячной поездки по России[9] веком раньше пророчески осознать, насколько глубоко засели в этом обществе блажь деспотизма, слепая покорность и безустанная ложь с целью произвести впечатление на иностранцев, и описать это в своем дневнике — сборнике писем Россия в 1839 году? Наверняка тут сыграл свою роль его любовник-поляк, юный граф Игнатий Гуровский, должно быть, живописавший маркизу кошмары царских репрессий. Почему Андре Жид из всей своей левой делегации после поездки в СССР в 1930-х один не поддался риторике о коммунистическом равенстве и революционном идеализме? Возможно, из-за настойчивых увещеваний идеалиста Виктора Сержа он смог распознать обман и страх принимавших его людей.
Сам Серж скромно говорит, что, для того чтобы говорить правду, нужно лишь немного ясного ума и независимости. В Воспоминаниях революционера он пишет:
Считаю своим достоинством то, что в некоторых важных обстоятельствах не терял здравого смысла. Здесь, по сути, нет ничего трудного, однако же далеко не все на это способны. Не думаю, что всё зависит от степени просвещенности или раскрепощенности ума, скорее, это вопрос здравого смысла, доброй воли и известного мужества, необходимого для преодоления влияния среды и естественной склонности закрывать глаза на факты, склонности, порождаемой сиюминутными интересами и боязнью подступиться к проблеме. «Самое страшное в поисках правды — найти ее», — говорил один французский эссеист <…>. Находишь — и уже не волен ни подчиниться мнению собственного окружения, ни принимать расхожие клише.
«Самое страшное в поисках правды…» — эту цитату каждому писателю стоит повесить над рабочим столом.
По большей части забыты постыдная слепота и ложь Драйзера, Роллана, Анри Барбюса, Луи Арагона, Беатрисы и Сиднея Веббов, Халлдора Лакснесса, Эгона Эрвина Киша, Уолтера Дюранти, Лиона Фейхтвангера и подобных. Но забыты и те, кто возражал им, кто отстаивал правду. Постигнутая истина неблагодарна. Мы не можем помнить всех. Что остается в памяти, так это не свидетельства, но… литература. Спасти Сержа от забвения, уготованного большинству героев, может именно богатство его художественной прозы, в первую очередь Дела Тулаева. Но то, что его воспринимают только или в первую очередь как писателя-дидактика и что он писатель без страны, без своего места в литературном каноне какой-либо страны, — эти факты сложной судьбы Сержа продолжают вставать между читателем и его захватывающей, восхитительной книгой.
Для Сержа проза — это истина; истина, выходящая за рамки человеческого «я»; это обязательство давать голос тем, у кого его нет и у кого его отобрали. Он презирал романы о частных жизнях, а больше всего — автобиографические романы. «Существование индивидуумов — в том числе и свое — интересовало меня лишь постольку, поскольку отражало жизнь общества», — пишет он в Воспоминаниях. В дневниковой записи в марте 1944 года Серж говорит о том, почему правдивый вымысел ему кажется шире:
Должно быть, самый глубокий источник — это чувство, что чудесная жизнь проходит, пролетает, ускользает беспрестанно, и желание удержать ее в полете. Это отчаянное чувство лет в шестнадцать заставило меня уловить бесценный момент настоящего, понять, что существование (человеческое, «божественное») есть память. Потом уже, по мере обогащения личности, начинаешь понимать ее границы, ее нищету и оковы, начинаешь понимать, что у тебя есть только одна жизнь, что твоя индивидуальность обречена иметь пределы, но содержит множество возможных судеб и <…> переплетается <…> с другими человеческими существованиями, с землей, с другими существами, со всем. Писательство становится поиском множественности личности, способом прожить различные судьбы, проникнуть в другого, найти с ним общий язык <…> выйти за обычные пределы личности. <…> (Конечно, есть и другие писатели, индивидуалисты, которые ищут только самоутверждения и не могут видеть мир иначе, кроме как через призму самих себя.)
Рассказать историю, воссоздать мир — в этом смысл художественной прозы. Это убеждение толкнуло Сержа к тому, чтобы в своем романе объединить две на первый взгляд несовместимые идеи.
Первая — это идея романов как эпизодов исторической панорамы, каждый из которых рассказывает свою отдельную часть цельной истории. История Сержа — это героизм и несправедливость первой половины ХХ века в Европе, и начаться этот цикл мог бы с романа о французских анархистских кругах накануне 1914 года (об этом времени он написал мемуары, конфискованные ГПУ). Но в тех романах, которые Серж смог закончить, хронология покрывает период от Первой до Второй мировой войны — от Людей в тюрьме, написанного в Ленинграде в конце 1920-х и опубликованного в Париже в 1930-х, до Когда нет прощения, его последнего романа, написанного в Мексике в 1946 году и опубликованного только в 1971 году в Париже. (На английский он пока что не переведен[10].) Дело Тулаева, повествующий о Большом терроре 1930-х, занимает место ближе к концу цикла. Как и в классических романах-циклах — Бальзака, например, — некоторые персонажи появляются от книги к книге, хотя здесь их совсем немного, и среди них нет того, кого можно было бы принять за альтер эго самого Сержа. Народный комиссар Ершов, следователь Флейшман, отвратительная аппаратчица Зверева и благородный левый оппозиционер Рыжик из Дела Тулаева появляются и в Завоеванном городе (1932), третьем романе Сержа об осаде Петрограда, и, вероятно, в утраченном романе La tourmente (Буря), предыстории Завоеванного города. (Еще Рыжик — важный персонаж в Полночи века, а Флейшман — один из второстепенных.)
У нас есть только фрагменты этого большого проекта. Однако Серж не посвятил всего себя труду над хрониками, как Солженицын — циклу романов о ленинской эпохе, не только потому, что у него не хватало времени, но и потому, что он реализовал в своих романах еще одну идею, идущую несколько вразрез с первой. Исторические романы Солженицына — части одного целого с литературной точки зрения, и нельзя сказать, что они от этого выигрывают. Романы Сержа