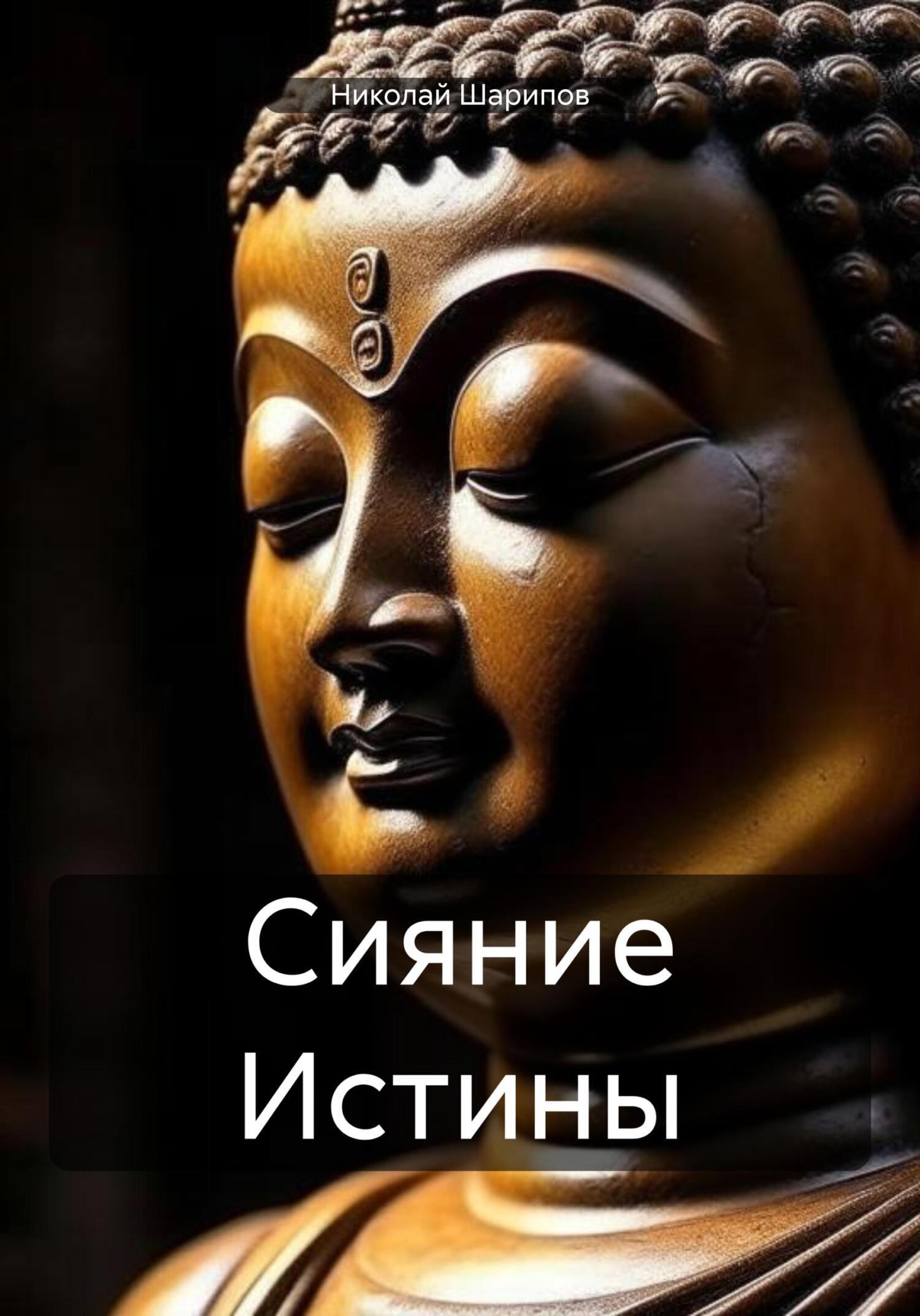«стариков» сразу же для них вступали в силу неписанные законы, с которыми не мог справиться даже гроза солдата — старшина, применяющий в своем обиходе только апробированные бесконечной службой фразы: «Если положено, то как положено, не положено — значит, не положено. И чтоб порядочек был!»
Я тоже становился «стариком». Уже салаги перетаскивали мою постель с верхнего яруса коек на низ, кто-то услужливо отбраковывал матрац, напоминающий больше местность для маневров, чем принадлежность для сна. Все было хорошо, но я не радовался. Вместе со «стариками» уезжал и он, мой лучший армейский друг.
Как жаль, что я расстался с ним резко, холодно, очень холодно…
Сбросив груз стандартной работы, наспех освежившись, с наброшенным на плечо полотенцем я выходил из умывальной. И вдруг — какая неожиданность! Передо мной появилась фигура в мундире. Он был почти неузнаваем, так как я его никогда раньше не видел в мундире.
— Здравствуй, Смирнов! — возбужденным голосом проговорил он.
Я остановился, ощущая теплое прикосновение руки.
— Здравствуй.
Идиотская сухость в моем голосе потрясла его. Кажется, он был похож на девушку, которой ответили на первое в жизни признание в любви зевотой.
— Я уезжаю… навсегда… понимаешь?..
В его голосе появилось для меня что-то незнакомое и странное. Он не осознавал, не хотел осознать, что мы расстаемся с ним просто так и навсегда.
— Прощай, — чужим голосом сообщил я. Откуда появилась во мне эта дурацкая отчужденность, я не знаю. Неужели я набрался от него во время совместной службы?
— Но мы же земляки…
Он чего-то ждал. И это был его последний козырь. Здесь, среди чужих голосов и речи, слово «земляк» звучало как святыня, приобретало новый смысл, становилось влагой в безводной пустыне. Он знал это. Знал это и я. Но ему было проще, он уезжал к себе, в свой город, в свой дом, где каждый кирпич напоминал детство, каждая улица — твоя, ты — свой. Я же оставался. Оставался среди витрин, среди чужой красоты, которую приятно наблюдать на экране телевизора, сидя в домашнем кресле, но не через окно казармы.
Я его прозвал Медвежья Лапа. Он так и не привык к своему прозвищу, несмотря на то, что оно идеально подходило ему, остроугольному, неотшлифованному и неуклюжему.
Лапа был собран из разнородных кусков, которые не подчинялись друг другу, не слушались его и были связаны между собой механически. Левая рука постоянно находилась в кармане, правая свободно болталась, не находя себе места. Она была совершенно лишней, это сразу же бросалось в глаза. Зашей ему карман — и тогда две руки-аппендиксы не найдут места у своего хозяина.
Но вы бы посмотрели на эти «аппендиксы» во время игры на пианино. Здесь Медвежья Лапа состоял только из рук, которым он был подчинен весь, полностью, без остатка. Необыкновенное зрелище! Руки его в это время были произведениями искусства. Но вся беда состояла в том, что за игрой Лапу застать было невозможно. В присутствии других он никогда не садился за инструмент. Тайком, иногда даже ночью, так, чтобы никто не знал, никто не видел, даже я, он проникал в музвзвод и там наслаждался собственной игрой. Один, без свидетелей. Я даже не предполагал, что у него, кроме высшего образования, есть еще и музыкальное. Об этом мне однажды сообщил один латыш, высокий, худощавый, всегда с гримасой скепсиса на лице и совершенно неразговорчивый. Так вот, этот латыш однажды, в процессе выпивки, поведал мне причину его странности. Когда-то, неизвестно при каких обстоятельствах, Медвежья Лапа сказал отцу, что не возьмется ни за один музыкальный инструмент. Но он мог бы вообще не играть, раз уж такой хозяин слова. А если играл тайком от отца, ничто не мешало ему с таким же успехом играть здесь, в армии, и в присутствии других — отца рядом с ним не было.
Можно было минутами смотреть в его глаза, и это не надоедало. Нельзя сказать, что он обладал умным, проницательным, гипнотизирующим или еще каким-либо особенным взглядом. Скорее наоборот, его взгляд был мягким. Огромные карие глаза, не идущие к его лицу, постоянно менялись, и невозможно было определить, какими они станут в следующий миг.
На пухлых губах постоянно присутствовала улыбка, по-детски наивная, несмотря на двадцатипятилетний возраст. Это была улыбка напроказившего ребенка, неожиданно застигнутого взрослым, улыбка, совершенно ненужная ему, огромному, с рыхлым телом мужчине.
В строю Лапа ходил всегда сзади, размахивая, как маятником, правой рукой, ходил неуклюже, по-медвежьи. Команды выполнял с усердием, как первоклассник, выводящий в тетради первые крючки, и так же неумело. В нем напрочь отсутствовала солдатская выправка. Да и где ему было научиться ей? Можно было не ехать сюда, никто его не звал на срочную службу, но, видите ли, Медвежья Лапа решил узнать, что такое армия, попробовать армейской жизни. Ну и попробовал. Судьба, как бы издеваясь, определила его в собаководы, а позже в повара.
Я был однажды там, на форштадте в питомнике. Микрокомната, приставленный к стене полуразвалина-стол, выгнутый под тяжестью книг, еще один, непонятной национальности длинный, тощий усатый тип и кот, чинно прохаживающийся между двумя койками. Потом этот кот исчез. Неизвестно, за какие грехи Лапа посадил его на гауптвахту, специально сделанную по этому случаю из кирпича. Первый раз кот сделал подкоп и удрал, но в другой раз, не выдержав холода, околел. «Се ля ви», — прокомментировал безвременную кончину своего соседа Медвежья Лапа.
Позже у него возникнет конфликт с немецкой овчаркой. Видел я эту овчарку. Однажды, уже не помню где — в крепости или на аэродроме, я лоб в лоб столкнулся со сворой гигантских псов, марширующих на блокпосты и волокущих за собой бегущего вприпрыжку Лапу. Показывать перед ним свою трусость не хотелось, и я прижался к бордюру. Как по команде, пять повернувшихся в мою сторону псиных голов несколько секунд меня исследовали, прислушиваясь, что скажет их хозяин, но, так ничего и не услышав, дохнули на меня неприятным собачьим запахом и удалились.
У одной из этих овчарок Медвежья Лапа пытался забрать кусок мяса. Тренированная собака может умереть с голоду, но без команды не притронется к пище. Однако выходку Лапы немецкая овчарка не стерпела. Собачье самолюбие было оскорблено. На принадлежащий ей кусок мяса посягнул другой, пусть даже хозяин.