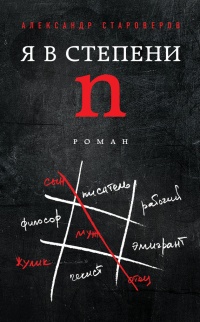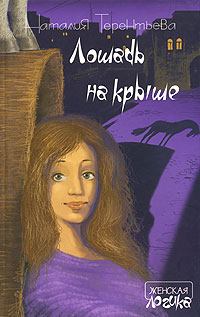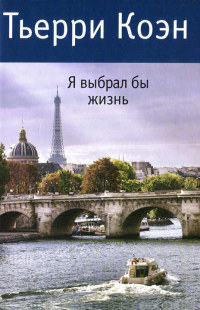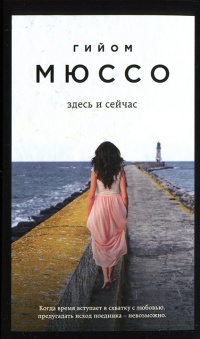сшитых на живую нитку из жидкого, никуда не годного материала, — это старый, хороший ластик, который переживет, пожалуй, и его самого! Хорошо еще, что без разреза сзади, — по крайней мере, полы не разлетаются во все стороны. А впереди они запахиваются чуть ли не на целый аршин.
В шубе было бы, конечно, лучше. В шубе так тепло… Очень тепло. Но все-таки сперва нужно приобрести очки. Шуба годится только зимой, а очки нужны всегда. Летом, когда ветер сыплет песком прямо в глаза, пожалуй, еще хуже, чем зимой.
Итак, решено: сперва очки, а потом уже шуба.
Если бы он с божьей помощью окончил приемку пшеницы, то наверняка получил бы за это четыре злотых.
И он плетется дальше. Мокрый, холодный снег бьет ему в лицо, ветер становится все крепче, колотье в боку — все сильнее.
"Если бы только переменился ветер! Впрочем, так лучше: на обратном пути я еще больше устану, и тогда ветер будет дуть мне в спину. О, тогда я совсем иначе зашагаю!"
Все обдумано, и на душе сразу легко.
Он вынужден остановиться на минуту, чтобы перевести дыхание. Это его немного беспокоит.
"Что бы это со мной могло случиться? Мало ли вьюг и морозов перенес я, будучи кантонистом?"
И он вспоминает свою военную службу, время, когда он был николаевским солдатом. Двадцать пять лет действительной службы под ружьем, не считая детского возраста, когда он был кантонистом. Он немало походил на своем веку, немало помаршировал по горам и долинам, и в какие вьюги, в какие морозы! Деревья трещат, птицы замертво падают наземь, а русский солдат, как ни в чем не бывало, бодро шагает вперед да еще песенки распевает, камаринского или трепака отплясывает.
Мысль о том, что он выдержал тогдашнюю тридцатипятилетнюю службу с ее тяжелыми испытаниями, перенес столько вьюг, морозов, столько лишений, голода, жажды и здоровым домой вернулся, вызывает в нем чувство гордости.
Он распрямляет спину, гордо подымает голову и шагает с удвоенной силой.
"Ха-ха! Что для меня такой мороз? В России — там было совсем другое дело".
Он шагает дальше. Ветер чуть стихает. Становится темней. Близится ночь.
"Тоже день, нечего сказать! Оглянуться не успеешь…" И он ускоряет шаг, боясь, чтоб ночь не застигла его на полпути. Недаром же он по субботам изучает тору в синагоге. Он отлично знает, что "надо выходить и возвращаться заблаговременно".
Он начинает чувствовать голод, а когда он голоден, ему почему-то становится весело — так уж у него получается. Он знает, что аппетит — вещь хорошая; купцы, у которых он на посылках, вечно жалуются, что им никогда есть не хочется. У него, слава богу, всегда есть аппетит. Разве только когда ему становится не по себе, как вчера, например: он чувствовал себя нездоровым, и хлеб показался ему кислым.
"Поди ж ты, чтоб солдатский хлеб был кислый! Может быть, когда-то, в былые времена, но не теперь. Теперь христиане пекут такой хлеб, что еврейских пекарей за пояс заткнут. А хлеб он купил свежеиспеченный. Одно удовольствие резать его. Просто сам он тогда был не совсем здоров, дрожь какая-то по всему телу пробегала.
Но слава тому, чье имя он недостоин произносить, это случается с ним редко!"
Теперь у него снова появился аппетит, он даже запас на дорогу кусок хлеба с сыром… Сыру ему дала жена купца, дай бог ей здоровья! Она-таки настоящая благотворительница, у нее истинно еврейское сердце.
Если бы она только не бранилась так крепко, то была бы совсем славной женщиной! Он вспоминает свою умершую жену. "Точь-в-точь моя Шпринце! У той тоже было доброе сердце и привычка браниться за каждую мелочь. Кого бы из детей я ни отсылал в люди, она плакала навзрыд, несмотря на то, что дома ругала их самыми отборными словами. Что уж там говорить, когда умирал кто-нибудь из них! Она целыми днями извивалась по полу, как змея, и колотила себя кулаками в голову. Однажды она дошла даже до того, что хотела швырнуть камень в небо!
Подумаешь! Будто и в самом деле бог обращает внимание на глупую женщину! Но она ни за что не хотела выпустить из дому носилок с покойником. Она колотила женщин, а носильщикам даже в бороды вцепилась.
И какая сила таилась в этой Шпринце! На вид — муха, а какая сила, какая сила!
Но все-таки она была доброй женщиной. Даже ко мне она не питала вражды, даром что не находила никогда доброго слова для меня. Вечно требовала развода, не то, мол, она и так сбежит. Но какой ей там развод!.."
Он о чем-то вспоминает и самодовольно улыбается.
Случилось это много, много лет назад. Еще во времена откупов. Он был ночным сторожем и по целым ночам расхаживал у склада с железной палкой в руке. Службу он знал отлично, он прошел хорошую школу, в полку имел превосходных учителей!..
Было это зимой, пред рассветом. Его сменил дневной сторож — Хаим Иона, царствие ему небесное. И Шмерл направился домой, озябший, окоченевший от мороза. Стучится в дверь, а жена кричит ему из постели:
— Провались ты сквозь землю! Я думала, что вернешься уже не ты, а тень твоя.
Ого! Она сердита еще со вчерашнего дня. Он не помнит далее, что случилось вчера, но что-то, должно быть, случилось.
— Заткни глотку и открой дверь! — кричит он.
— Череп я тебе раскрою, — слышится короткий ответ.
— Впусти!
— Провались ты сквозь землю!
Подумав немного, он направился в синагогу. Там он расположился за печкой и уснул. К несчастию, там как раз случился угар, и его, еле живого, принесли домой…
Шутка сказать, что тогда вытворяла Шпринце! Позже немного он стал хорошо слышать все, что творилось вокруг него.
Ей говорят: ничего опасного, он только угорел.
Так нет же! Непременно ей доктора подавай. Она сейчас упадет в обморок, бросится в воду!.. И кричит благим матом: "Муж мой! Муж мой, бесценный мой!"
Собравшись с силами, он садится и спокойно спрашивает:
— Ну, что, Шпринце, хочешь развод?
— Прова… — Но она не докончила проклятья и разразилась громким плачем… — Как думаешь, Шмерл, бог накажет меня за проклятья, за мою злость?..
Но едва лишь он выздоровел — снова она прежняя Шпринце: язык удержу не знает, сильна, как чорт, и запускает когти, как настоящая кошка. Э-эх, жалко Шпринце! Не дождалась она радости от своих детей.
"Им, должно быть, хорошо живется там, на чужбине, — все ремесленники. С ремеслом нигде не пропадешь с голоду, сил у них,