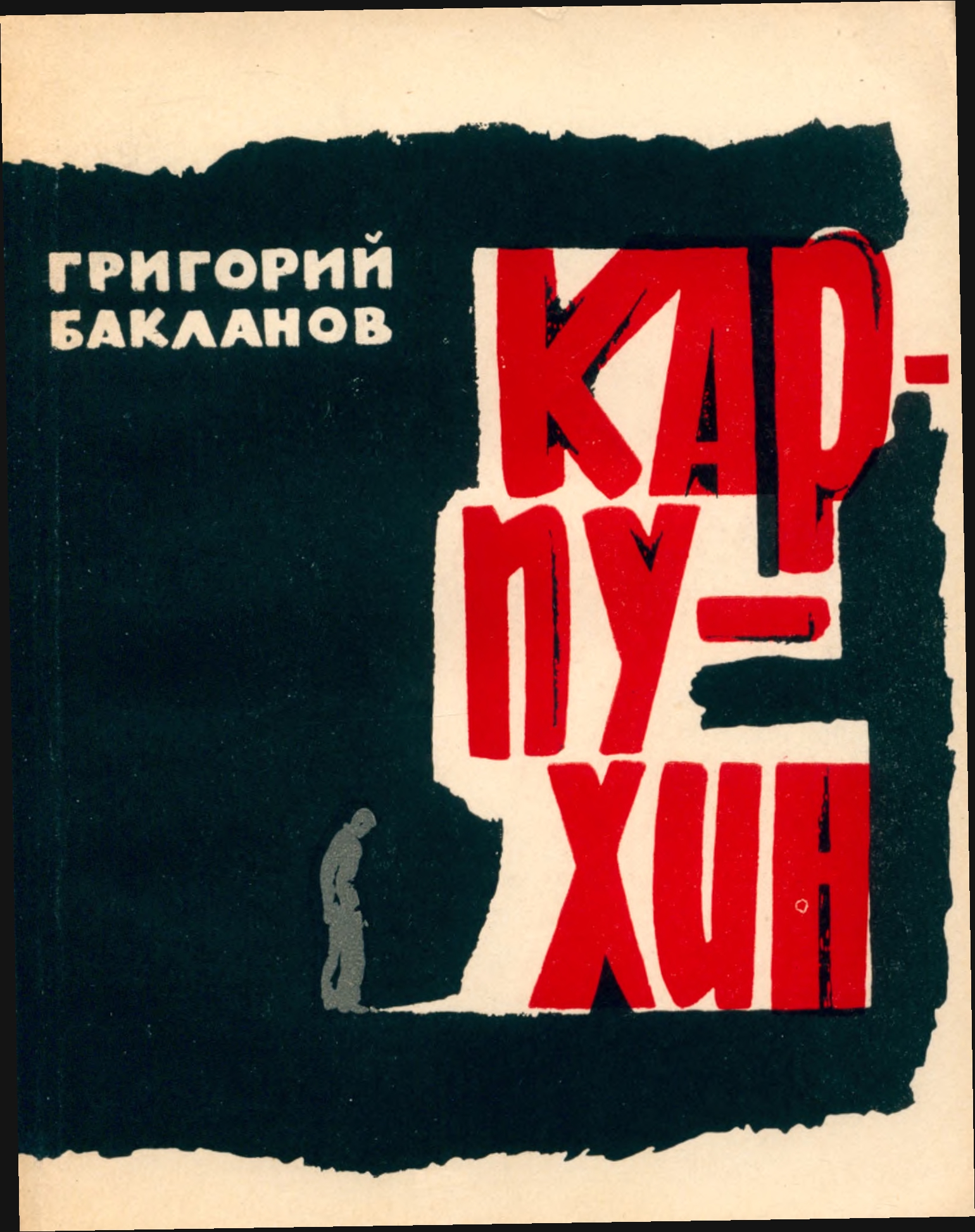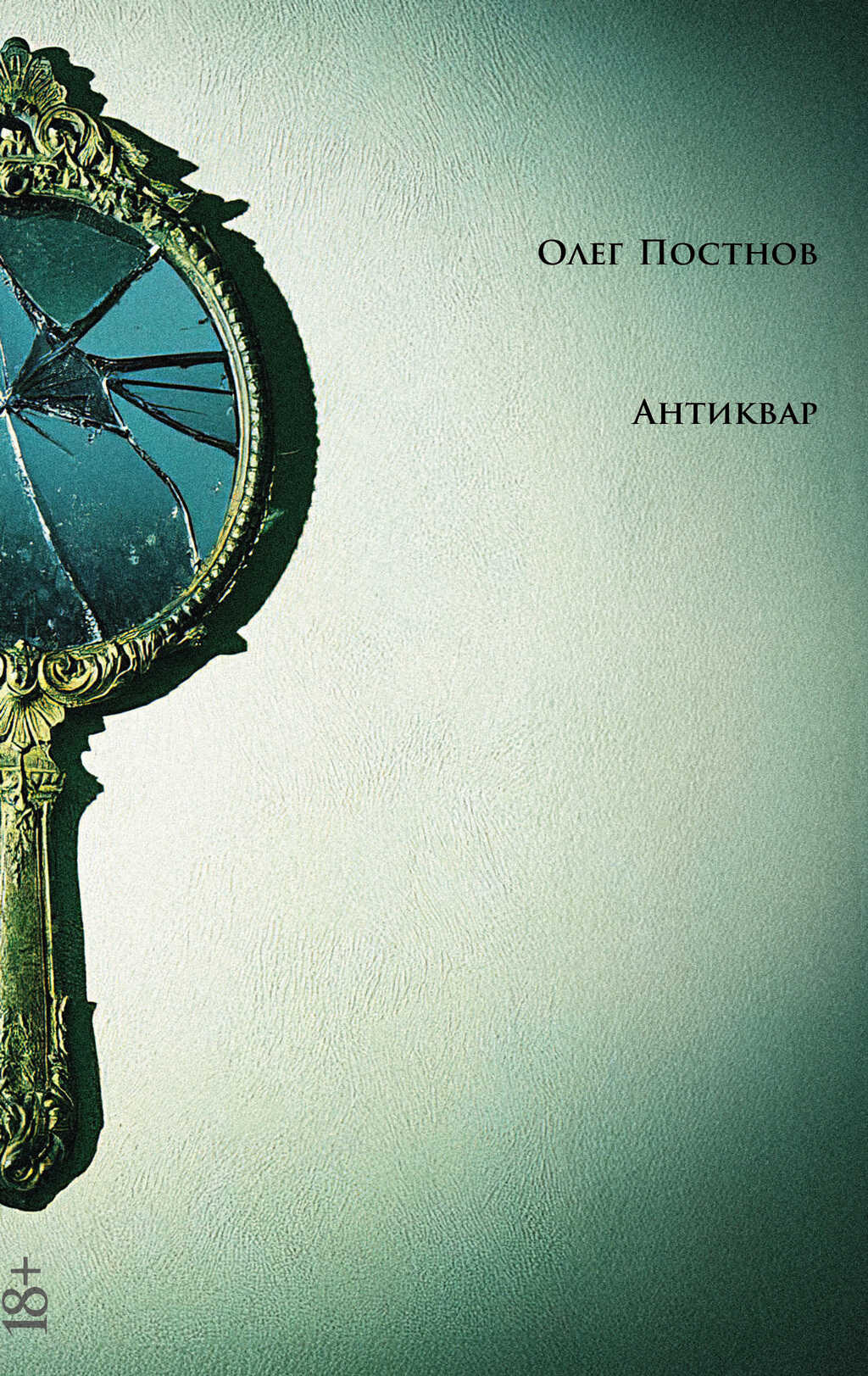миновала. Пришел приказ об отмене взрыва электростанции.
Николай Ильич Фирсов был родным братом моей матери, я хорошо знаю эту историю как семейную. В 1959 году Николай Фирсов был реабилитирован. В нашем роду изменников не было.
А электростанция продолжала работать в Москве. Прошло еще некоторое время, в начале семидесятых годов Анатолий Николаевич Фирсов, мой двоюродный брат, решил ставить новый дом в деревне и поехал по московской родне собирать деньги на стройку. Возникла идея обратиться к директору электростанции, которая была спасена отцом Анатолия.
Молодой директор выслушал моего брата и сказал, что может дать единовременное пособие в размере 30 рублей.
Анатолий Фирсов был уязвлен ничтожностью суммы:
— Он же народное добро спас. Миллионы.
Теперь не выдержал директор. Хлопнул ладонью:
— Кому оно нужно — такое добро? Мы на последнем месте в отрасли, нас песочат на всех совещаниях. Мы же образец расточительности. Станция построена в десятых годах, с допотопными котлами. Жжем угля в два раза больше нормы. Если бы ее взорвали тогда, в сорок первом, имели бы сейчас новую станцию. Стояли бы в моем кабинете красные знамена. А так — сколько нам еще мучиться?
Недавно я там побывал. Электростанция продолжает коптить небо. Правда, произведена некоторая модернизация: вместо угля станция топится газом. Прежде жгли лишний уголь, стали жечь лишний газ — такой прогресс.
Эту семейную историю мы вспоминаем каждый раз, собираясь по фамильным датам. И разгорается дискуссия на вечные темы долга, патриотизма, жертвенности. Правильно ли поступил Николай Ильич, спасая станцию? И вообще, нужен ли наш подвиг, если результаты его не очевидны?
В таком примерно виде семейная история затвердевает, передаваемая на хранение третьему поколению — внукам. У Николая Ильича их шестеро.
В конце концов есть один из основополагающих вопросов века — что мы передадим последующим поколениям? Деды начинают век, правнуки его завершают.
2. ХОЛОДНО — ХОЛОДНО
Военные воспоминания хранятся на особых полках памяти, поставленных в основании бытия. Время от времени достается старым солдатам протирать эти обветренные годами полки от пыли повседневности.
Над озером Ильмень висело низкое ослепшее небо. Январь 1944 года. Северо-Западный фронт. Я лежал на льду Ильмень-озера, и пулеметы били не переставая. Третьи сутки мы штурмовали вражеский берег, поднимались в атаку и откатывались назад под огнем пулеметов и пушек.
Тут и приключилась эта волшебная история, значение которой я и теперь понимаю не до конца: неужто это в самом деле было там, на льду, под боем пулеметов, на стылом ветру? Или пригрезилось моим отмороженным глазам?
Я увидел будущее — и не просто будущее, а с приклеенным эпитетом. А это означает, что я видел светлое будущее.
Вжимаясь в лед, ко мне подползал замполит первого батальона капитан Хлопотин.
— Слушай, лейтенант, — кричал он ледяным голосом, а у него получался шепот. — Мы должны взять этот проклятый берег. И тогда к нам придет победа. Ты знаешь, какая прекрасная жизнь будет тогда?
— Какая? — завороженно спросил я.
— Победная, — отвечал он под бой пулеметов. — Мы состаримся, станем ветеранами. И перед каждым праздником нам будут давать ветеранский заказ с копченой колбасой и черной икрой. Но это еще не все. Раз в год ты сможешь получить бесплатный билет в мягком вагоне, туда и обратно, дуй куда хочешь. И будешь без очереди сдавать сапоги в ремонт.
Я задыхался от холода, слушая слова замполита. Я верил и не верил, ибо не обладал таким глубоким историческим видением. Вскоре мы в двенадцатый раз поднялись в атаку — и взяли берег. Капитан Хлопотин был тяжело ранен в грудь, его отвезли в тыл на аэросанях, больше я его не видел.
Смешно предположить, что мы, ветераны второй мировой войны, сражались за привилегии. Никто нас не упрекнет в том, что мы пошли на фронт с целью сделать карьеру.
Много мы отдали жизней за победу. И все-таки отдать войне двадцать миллионов жизней было легче, чем думать об этом сейчас, в год сорокалетия Победы. Это значит, что наша скорбь еще не излилась, да она же никогда до конца не изольется, иначе мы перестанем быть великим народом. Мы скорбим и продолжаем жить. Павшим — монументы, нам — земные радости и печали.
И все же — как быть с привилегиями, ведь мы пользуемся ими, не так ли?
Давно хотел написать об этом, да все рука не поднималась. Иду я за этой ветеранской колбасой, а на душе кошки скребут. Всякие ненужные вопросы меня посещают: неужто я и в самом деле за колбасу сражался?
Разумеется, я понимаю, что нравственная степень подобных дилемм не может быть глубокой — иду по мелководью. И незатейливая совесть моя постепенно успокаивается. Ах, как холодно было сорок один год назад на льду Ильмень-озера. Этот холод и сейчас пронизывает меня сквозь бездонные колодцы времени — и чем дальше я от него, тем он въедливее.
И я начинаю резво работать локтями, пробиваясь к прилавку.
Все так делают.
Внук спрашивает:
— Деда, Лев Толстой был ветераном Севастопольской кампании. Он тоже получал ветеранскую колбасу?
— Перед ним не было подобной дилеммы: получать или не получать, бодро отвечаю я. — Лев Николаевич был вегетарианцем.
3. ТЕПЛО — ТЕПЛО
— Дети! Мы начинаем. Предмет находится в комнате, вы его не знаете. Вы ищете, передвигаетесь во всех направлениях, а я говорю вам: тепло, еще теплее, холоднее, совсем холодно, Северный полюс.
Поняли меня? Играем по очереди.
Детская игра — выбор состоит из двух позиций: тепло или холодно. Современная цивилизация усложнилась на много порядков. Проблема выбора включает в себя неисчислимое количество компонентов. Тем не менее в проблеме выбора всегда остаются два исконных начала. Это те же самые тепло — холодно, в переводе для взрослых значащие: добро и зло.
Сколько