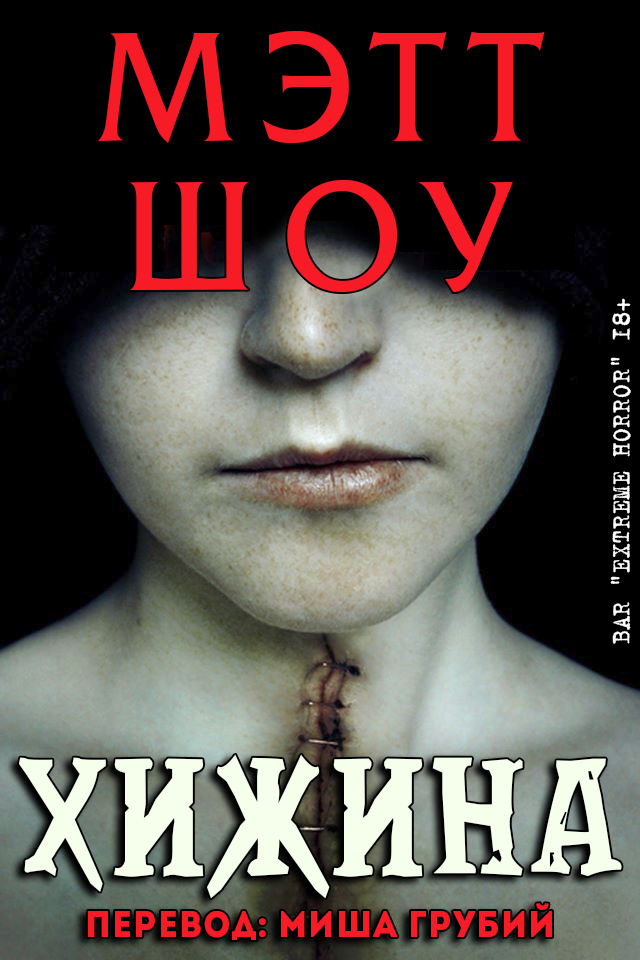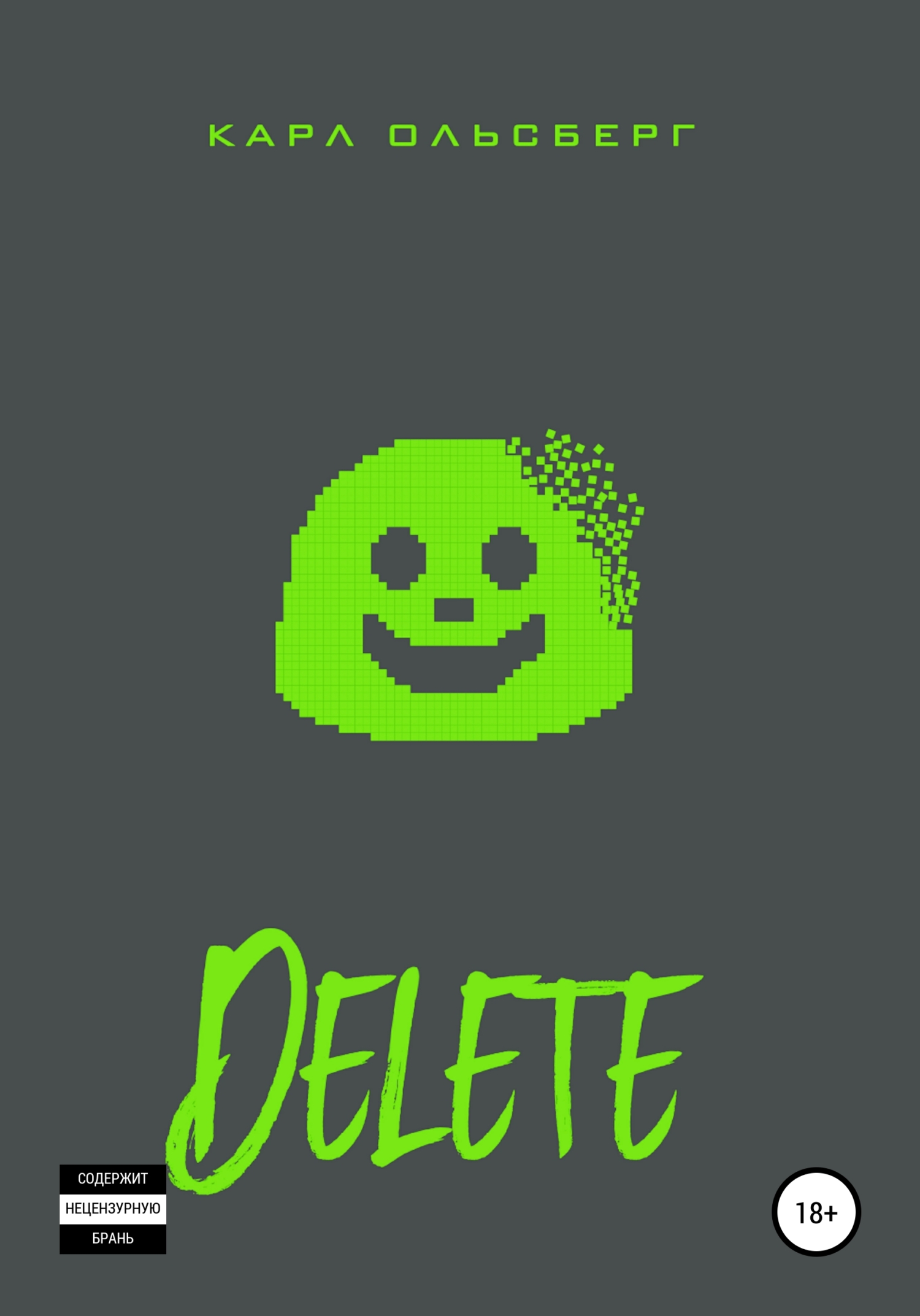мне из-за тебя, сучий ты сын, говорит, выговор уже один прилетел сверху. Премии меня новогодней хотят лишить из-за тебя, такого подонка и бездарности. Это он мне в лицо, значит, всё говорит, не стесняясь в выражениях. Не найдешь, говорит, до Нового года никого, будешь мне половину своей зарплаты отдавать каждый месяц, а то, говорит, и недели здесь больше не проведешь. Понял меня, сука? – такими словами прямо и величал, дословно почти тебе пересказываю. Выслушал я его внимательно, встал, к столу его подошел, он так это на спинку кресла облокотился, руки крестом на груди сложил, слушать мои доводы, видимо, приготовился. Ну я и выложил ему все свои соображения на эту тему – на половину моей зарплаты, говорю ему, ты себя даже колесо на свою машину не купишь, но вот, говорю, если бы ты, пидор, хотя бы четверть тех денег, которые ты за алкашку и сигареты у метро стрижешь своим подчиненным раздавал, то каждый бы давно себе квартиру купил, причем не в ипотеку и не в Колтушах каких-нибудь с Парнасом, а в центре, да еще и с видом на Неву, да еще и с паркингом в придачу. Прихере-е-е-л! Захрипел сначала, потом захрюкал, потом глаза выкатил как каракатица какая-то и смотрит на меня. А я на него смотрю. Минуту мы щами друг друга так любовались. Потом отошел, видимо, язык отлип от… к чему у него он прилип там, и говорит мне голоском таким уже, значит, срывающимся, писклявым – как ты посмел, мразь ты такая-то, драть тебя кверху долго жопой, такого благородного человека как я, который тебя по должности там и по уму хер знает как выше, гомосексуалистом назвать и во взяточничестве обвинить?! А ну, говорит, живо давай удостоверение и оружие сюда! Ну тут уже и мои нервы не железными оказались. Вытащил я пистолет, вот этот самый, – Алиев кивнул головой на блестевший в свете костра пистолет, – с предохранителя снял, курок взвел и ему прямо ко лбу его прижал. Нет, говорю, попутал ты, брат, не называл я тебе гомосексуалистом. Гомосексуалист, говорю ему, это Чайковский Петр Ильич, Фредди Меркьюри гомосексуалистом был, Оскар Уайлд, говорю, из этих ребят тоже вроде как числился, а ты же, говорю, пидор поганый к которому ни один приличный пидорас ни то что жопой, да даже лицом не повернется. Вот тут-то его прихватило не по-детски, в штаны даже нагадил, буквально причем, перднул, а потом и дерьмом запахло. Не знаю, как я тогда сдержался. Не стал я в него стрелять. Пожалел, хотя… не надо было. Батя покойный говорил – если достал пушку – стреляй. Но я не стал. Только портреты его с его поганой жирной харей всё расстрелял, в каждый, прямо в лоб по пуле всадил. Половину зарплаты ему должен отдать, мать его! Стрелял пока патроны не закончились. А потом – на, говорю, тебе мое оружие, и этим же пистолетом ему в рожу и запустил. Бровь ему пробил, кровища потекла. Думал бросится на меня, как пистолет разряжу, тут-то я ему и наваляю – это уже честно будет, по-офицерски. А он лишь в угол забился, да ручонки так к лицу, – пощади, мол. Пощадил в итоге, ушел! – Алиев снова отпил из фляги, потом поставил ее вниз, к ноге, достал очередную сигарету из кармана и раскурил ее. – Пошел я домой тогда, пришел, куртку сбросил. Говорю жене, – приготовь мне харчо. Понимал тогда, что посадят, а там еще и убьют, ведь эта сволота и там власть имеет. В последний раз нормальное что-то, может, в жизни поесть придется. Она меня ничего тогда не спросила, поняла, наверное, по физиономии и молча готовить начала. А я тем временем полку в туалете делать принялся. Целый год меня просила, а я ей всё завтра, да завтра. Да, думаю, настало время, а то кто ей без меня что сделает. Сын? Так ему сколько еще расти. Сделал полку, поел, ванну принял, потом сумку собрал – футболку, носки, трусы, несколько фотографий – всё самое нужное положил и начал их ждать. Долго ждал, напряженно, но… никто не пришел. Ни в этот день, ни на следующий! – Алиев выпустил в небо струю дыма и продолжил, в этот раз смотря исключительно на звезды и не пытаясь больше по звукам определить местонахождение того, кто, казалось, ходил вокруг. – Через пару дней звонит мне лейтёха, Карпов. Ну ты, говорит, натворил тут, дружище. Всех с ног на голову поставил. Бегал, говорит, этот мудило тут с окровавленной рожей и всем орал, что ты тут его душевно оскорбил. Сначала на дуэль какую-то хотел тебя вызывать, секунданта искал, дебил, мать его, пересмотрел, видимо, сериалов про всяких мудаков гусарских, а потом поуспокоился – штаны переодел и в высшие инстанции строчить кляузы начал. Каких-то своих корешей уже притащил, чтобы к тебе на квартиру ехать задерживать, да, говорит, позвонил ему кто-то большой из Москвы и намекнул, что не хорошо с тем, кто с войны отличия имеет, такие сцены публичные устраивать. Сразу поутих. Говном опять запахло, видимо пукан от злости опять траванул. Через пару дней пришел я на работу, а к вечеру он меня опять к себе пригласил. Никаких этих понтов его уже нет, и рожа другая – обиженная, как у ребенка маленького. Вы мне, говорит, Дмитрий Заурович, на «вы» и по имени и отчеству прям величает, оскорбление большое нанесли, но, говорит, давайте оставим это в прошлом, эмоции эмоциями, а работа работой; работа, говорит, для нас превыше всего. За низкую результативность в расследовании, говорит, как бы мне не хотелось обратного, вынужден буду снять вас с этого дела и отправить на другое, там где какой-то алкаш жену и любовника в Девяткино порезал. Потом начал мне что-то про честь и достоинство рассказывать. Честь, говорит, самое главное в нашей жизни, честь, говорит, это основа человеческого существования. Да что он, свинья, понимает в чести-то. Не стал я его даже слушать, послал его на хер и ушел. Где он, а где честь? А через пару дней и за ним самим пришли. Видимо знали уже хорошо и о чести его и о достоинстве, но терпели, а когда он уже начал сор из избы выбрасывать, люди, видимо, совсем оскорбились. Сидит сейчас, мать его! Надеюсь, долго еще сидеть будет.
Алиев бросил окурок в огонь и снова отпил из фляги. Речь его чуть изменилась, нервозность в голосе прошла и после долгой паузы он продолжил