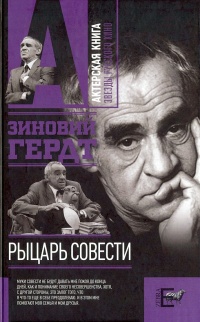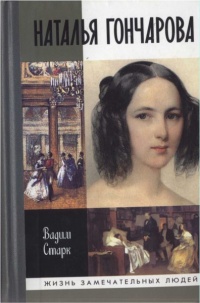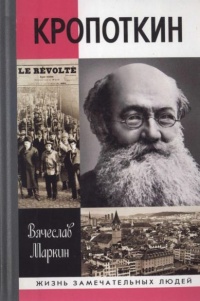Давид сильно призадумался.
— Может быть, я не прав по отношению к моему народу, когда считаю его трусливым? Из наших рядов вышли всевозможные мученики, верные страдальцы вроде тех, чью кровь нельзя смывать со стен синагоги.
Он и сам преклоняется перед этими героями. И даже не может сказать, чего им, собственно, не хватает.
Его мысли постоянно вращаются вокруг вопроса — чего им не хватает. Чего не хватает ему самому? Однажды ему показалось, что он близко подошел к разгадке тайны. Моника заметила, что один уголок грядки плохо взошел. Она наклоняется, зарывает руку в черную землю и работает в мягкой земле. Больше ничего. Но Давид внезапно вскрикивает:
— Вот в чем дело — в смелости, в самопожертвовании у нас недостатка нет. Но можем ли мы вложить руку в рыхлую землю? Мы боимся плодоносной земли, мы питаем недоверие ко всему, что медленно, упорно и таинственно создается творческими силами жизни, которым надо только доверять и которых нельзя постичь. А мы хотим все проверить. Слишком неугомонный мы народ, так и говорится о нас в Писании. Мы все проверяем, всегда спешим. А у тебя, Моника, есть умение тихо останавливаться у растений, у боярышника и крапивы с их терпким и сладким соком. Это больше, чем смелость.
Обилие открывшихся ему истин смущает его, он не в состоянии отчетливо говорить.
— Это — такое сильное, спокойное выжидание. Вот ты спала на коврике в башне и знала, что я, наконец, догадаюсь и приду. Это — такое глубокое доверие, что все должно совершиться само собой, без нашего содействия.
— А разве я оказалась не права, — улыбается Моника, не вполне понимая внутреннюю связь его слов.
Она уже привыкла к тому, что он иногда выходит из себя по таким поводам, которые ей кажутся незначительными. Он любит слушать рассказы о цветах и животных. Как-то раз она показывает ему белые нежные отцветающие одуванчики, а вслед за тем листья земляники, под которыми спрятался только что показавшийся маленький цветочек. У Давида появляются слезы на глазах.
— Что с тобой?
— Я думал, что весной все цветет одновременно и все сразу отцветает. Не знаю, почему я так думал, может быть, я где-нибудь читал это. Я такой ученый, а не знаю самых простых вещей. Вот ты — совсем другая.
И он целует ее так страстно, как никогда.
После таких порывов страсти он приходит в дурное настроение, когда замечает в ее комнатке новые подарки: драгоценные вазы, золотую цепочку, собачку-болонку.
Эта комнатка и так уже убрана слишком богато. Она составляет контраст с простыми комнатами ее родителей. Нужно доверие, спокойное доверие. Ах, об этом легко говорить. Но если бы он действительно решился довериться ей и ни о чем не спрашивать.
— Ты снова была у бургграфа?
— У старого ветреника? Нет!
— С тех пор, как я тебя знаю, ты больше не была у него?
— Нет.
— И все-таки он присылает тебе венецианские стаканы, а вчера прислал это кольцо?
— Ведь я не говорю, что он не приглашает меня. Только я больше не хожу на его приглашения.
— И никогда не пойдешь?
— Никогда!
— Обещай мне!
Она задумывается, у него уже часто вертелся на языке вопрос.
— Я не понимаю — что ты нашла во мне?
Она жадно смотрит на него…
— Ты такой молодой.
Смысл слов ее ясен. Но неужели это — так просто? Значит, все, что он думал о ее оскорбленном чувстве стыда, было простым воображением?
Когда он днем вспоминает о событиях подобной ночи, его охватывает ужас. Он вспоминает сказание о докторе Фаусте, который продал душу черту для того, чтобы изучить царства мира.
«Вот так и я изучаю и постигаю невероятное, вижу подлинные силы и познаю их взаимоотношения. Но счастье мое построено только на грехе. Безумец я, если сопоставить мою жизнь с жизнью всей общины. Куда я иду? Такой одинокий, своим собственным путем. Взять, например, моего отца и мудрецов: разве не заключается вся их сила в том, что они твердо держатся правила всегда делать лишь то, что им указано как добро, совершенно свободное от греха? Они не допустили бы никакой примеси дурного побуждения. Целомудрен и строг их путь лишений. Они не поняли бы, если бы я им сказал, что я мешаю добро и зло, уповая на неведомые силы живого Бога. Что я, как Моника, предоставил события их собственному ходу и выжидаю и надеюсь, что добро справится со злом само, без всякого содействия с моей стороны, ибо Бог ведь милостив и желает жизни, а не смерти грешнику, желает, чтобы ему служили и дурным побуждением»…
Но иногда он говорит:
«Не слишком ли велика опасность, которой я себя подвергаю? Я становлюсь жертвой сладострастья. Я чувствую себя вполне хорошо в этой обстановке, чувствую себя, как лягушка в болоте. Ведь недаром этот дом имеет такое название».
Весь его облик постепенно изменился, выражение глаз, походка. Он ходит прямо, гордо и легко. Для того, чтобы укрепить свои мускулы, он усвоил привычку вытаскивать из железного хлама своей матери тяжелые брусья, алебарды и упражняться ими. Прежде он старался как можно меньше дотрагиваться до заржавевших кусков металла. Эти сломанные смертоносные орудия внушали ему ужас: на них иногда оставались следы крови. Вся грохочущая железом лавка вызывала в нем жуткое чувство. Теперь он ходит туда ранним утром каждый раз, когда возвращается от Моники. Он старается, чтобы никто его не увидел при этих выдуманных им упражнениях. Первые лучи солнца падают на сверкающую груду хлама. Так весело смотреть на нее и не замечать никаких призраков.
«Я хочу вырасти высоким, быть сильным, красивым и здоровым! Почему именно среди нас так много калек! Так много исковерканных, искривленных людишек, целое племя змей и драконов. А сколько среди нас юродивых?! Гиршль разве не юродивый, привратник Герзон и слуга наш Тувия, — куда ни посмотришь, кругом юродивые».
Но если даже этот путь, на который он стал, повинуясь своему желанию, не слушаясь учителей, не спрашивая ни у кого совета, если этот путь является роковым заблуждением, — то жизнь, которую вела община, казалась Давиду еще более ошибочной и недостойной. Вот недавно он был свидетелем того, как приветствовали в Праге короля Владислава. Владислав любил жить в Венгрии, которую он посредством договора соединил с землями чешской короны. Но теперь его прогнала из Венгрии господствовавшая там чума. Окруженный венгерскими баронами и прелатами, чешскими и моравскими дворянами, а также представителями городов, король возвращался в Прагу, где он собирался расположиться на некоторое время со своим двором и уладить бесконечные споры между сословиями и представителями различных религиозных исповеданий. Таким улаживанием он занимался уже в течение сорока лет, на этом состарился, стал больным, а споры нисколько не уменьшились с тех пор, как он на пятнадцатом году своей жизни получил чешскую корону. Только общая усталость страны не допускала повторения продолжительной кровавой борьбы вроде гуситских войн. На все, что ему предлагали, король отвечал «добре», то есть хорошо. Так его и звали в народе: король «добре».