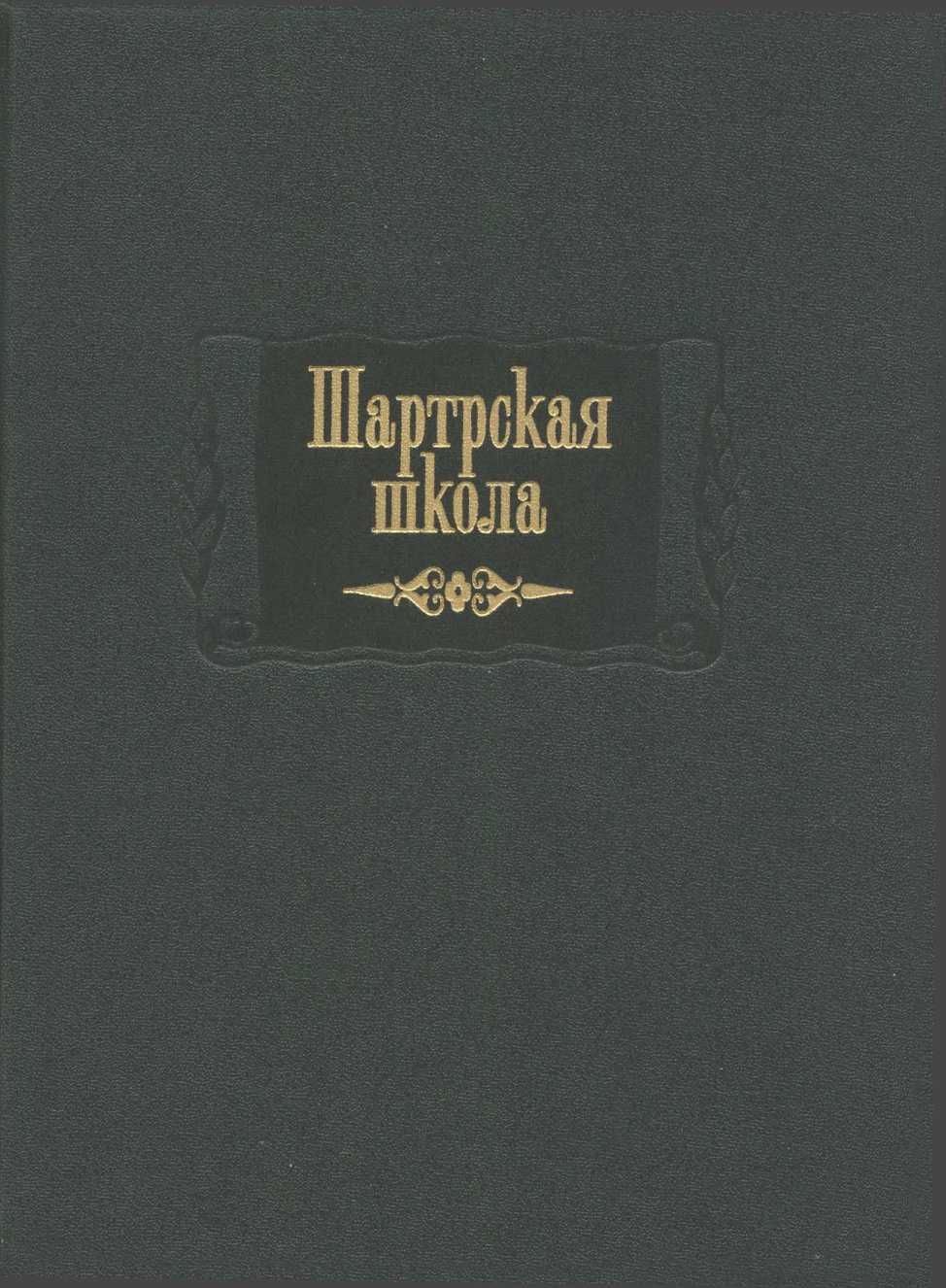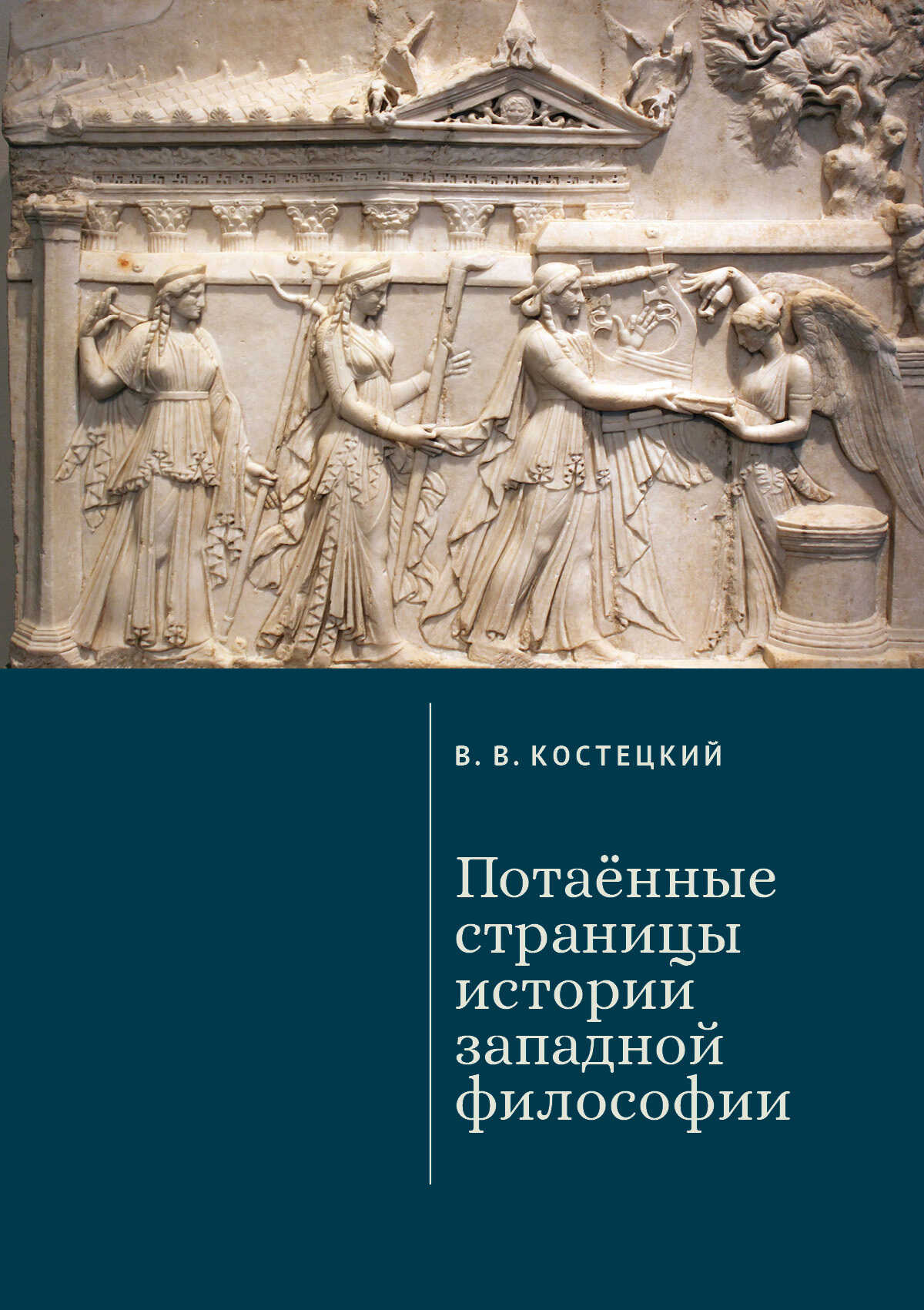поддержания «публичной истолкованности». Поэтому они не празднуют бессмысленное. Скорее им присуща своя собственная разомкнутость. Повседневность насыщена усредненными предложениями смысла [Sinnangeboten], которым люди бессознательно следуют: «В присутствии эта толковость толков всегда уже утвердилась. Многое мы сначала узнаем этим способом, немалое так никогда не выбирается из такой средней понятности. Этой обыденной растолкованности <…> оно никогда не может избежать»185.
Хайдеггер не всегда описывает людей или толки в их феноменологической нейтральности. Эта последняя часто нарушается оценками и представлениями, которые очевидным образом религиозны по своему происхождению. Поэтому за «толками» закрепляется «уничижительное значение». Такие оценки превращают позитивность повседневного в негативность несобственного. Поэтому толки уничтожают возможность собственной экзистенции: «…присутствие, держащееся толков, отсечено как бытие-в-мире от первичных и сходно-аутентичных бытийных связей с миром, с событие́м, с бытием-в»186. Толкам противопоставляется их позитивный антипод, страстная форма речи, а именно «молчание», которое дает услышать «жуть зависания». Люди как раз облегчают экзистенцию. Но бытие как таковое нагружает. Бытие есть страсть. Люди или развлечение лишают экзистенцию страсти, заставляя ее срываться в «беспочвенность и ничтожество несобственной повседневности»187. Толки, собственно, отнюдь не беспочвенны, поскольку они либо впервые образуют, либо укрепляют коммуникативную почву. Беспочвенным было бы такое молчание, которое сгущается до страсти.
«Бытие и время» могло бы называться «Страсть и развлечение». Homo doloris как фигура страсти представляет собой антипод людям. Только в «исходном одиночестве молчаливой, берущей на себя ужас решимости»188 присутствие достигает собственной экзистенции. Страсть есть одиночество. В противоположность людям, которые «вытесняют и в своеобразной манере пригнетают и оттягивают всякое новое спрашивание и всякое разбирательство»189, а также пересказывают уже известное, хайдеггеровский homo solitudinis [46] шагает в неизвестное. Он подвергает себя тому ужасу, который освобождает его от «иллюзий людей»190: «Ужас отнимает таким образом у присутствия возможность, падая, понимать себя из “мира” и публичной истолкованности»191.
Падение исчерпывается согласием с миром. Развлечение также покоится на согласии с тем, что есть. Оно даже может впервые создать или по крайней мере поддержать то, что есть. Ужас как фермент собственной экзистенции выражается, напротив, негативно. Он прогоняет «всякое окаменение в достигнутой экзистенции»192. Он делает присутствие бездомным, выдергивая его из привычного мира. Развлечение, напротив, призвано сделать нынешний мир домом для присутствия. Развлечение – это поддержание дома [в порядке]. Сталкиваясь со смертью, присутствие оказывается вне дома. Оно узнает о той ужасающей бездомности бытия, которая остается скрытой в однозначном, привычном мире людей.
В падении присутствие не стремится выйти за пределы известного и привычного. Согласие с миром – его основоустройство. Присутствие всегда уже тут. Поэтому «временность падения» – это всегда «настоящее»193. Будущее – всего лишь продолженное и удлиненное здесь и сейчас. Временность падения не допускает ничего совершенно иного. Ей закрыто настающее [47] в эмфатическом смысле, в смысле того, что схвачено-в-его-наступании [48]. Временность падения есть также временность развлечения. Присутствие, которое себя развлекает, держится здесь и сейчас. Развлечение укрепляет то, что есть. Его временность – тоже настоящее. Прошлое – это старое. Наступающее – это новое. Но ни старое, ни новое не являются другим.
Страсть собственной экзистенции свидетельствует о совершенно иной структуре времени. В противоположность падению, определяющим для нее является не настоящее, а будущее. Будущее – это временность страсти. Любое мессианское грядущее, в котором открывается совершенно другое, как раз чуждо хайдеггеровской мысли, но собственное будущее как «заступание в смерть» со своей стороны тоже покидает известное и привычное. Оно дает миру явиться в свете «не-по-себе»194, поскольку оно выбрасывает присутствие из «свойскости публичности». Это «не-по-себе» толкает присутствие в страсть, бросает его в героическую решимость.
Страсть к собственному [модусу бытия] господствует в хайдеггеровском «Бытии и времени». Люди, напротив, понимаются только как форма падения. Несмотря на заверения, Хайдеггеру не удается сохранять онтологическую нейтральность. Из-за этого на фоне проступает конститутивная функция повседневности без страсти – то есть людей, – которая, помимо прочего, состоит в том, чтобы снабдить мир смысловыми образцами, с которыми можно идентифицироваться, а также в том, чтобы в известном смысле через развлечение поддержать сам мир.
Хайдеггеровское присутствие держится в первую очередь и по большей части в «рабочем мире», то есть в мире труда. Уже в «Бытии и времени» Хайдеггер понимает труд как основополагающую форму человеческой экзистенции. Первый мир – это «рабочий мир». Труд при этом сопровождается «усмотрением». Усмотрение раскрывает вещи в их для-чего, то есть в их смысле, и при том дорефлексивно, то есть до всякой явной тематизации. Он производит близость к вещам за счет того, что встраивает или помещает вещи внутрь функциональной взаимосвязи привычного и свойского «рабочего мира». Соответствуя их всегдашнему для-чего, они располагаются внутри рабочего мира. Хайдеггер называет такое размещающее, располагающее «приближение» «от-далением». Отдаляющее «усмотрение» как «приближение» стирает даль. Но если работа приостанавливается, тогда усмотрение освобождается от привязанности к рабочему миру. Благодаря этому на досуге как свободном от работы времени появляется «освободившееся усмотрение». Поскольку присутствию всегда свойственна «сущностная тенденция к близости»195, оно продолжает деятельность отдаления и за пределами рабочего мира. Оттого в свободное время оно бродит по «далекому и чуждому миру», чтобы присвоить себе этот мир «только в его выглядении» – Хайдеггер мог бы сказать: «Чтобы таращиться на него». В отдыхе присутствие тоже зрит в даль. Этому телевидению присущ особый способ видения: «Присутствие ищет даль, только чтобы приблизить ее в том, как она выглядит. Присутствие дает захватить себя единственно тем, как выглядит мир»196. На досуге присутствие, освобожденное от усмотрения, отдается «похоти очей», характерному для него удовольствию от созерцания образов. Оно телезритель.
Хайдеггеровское замечание об «освободившемся усмотрении» можно понимать и как критику телевидения: «Высвободившееся любопытство озабочивается видением, однако не чтобы понять увиденное, то есть войти в бытие к нему, а только чтобы видеть. Оно ищет нового, только чтобы от него снова скакнуть к новому. Для заботы этого видения дело идет не о постижении и не о знающем бытии в истине, но о возможностях забыться в мире. Оттого любопытство характеризуется специфическим непребыванием при ближайшем. Оно поэтому и ищет не праздности созерцательного пребывания, но непокоя и возбуждения через вечно новое и смену встречающего. В своем непребывании любопытство озабочивается постоянной возможностью рассеяния». Поэтому телевидение можно было бы счесть пассивной «оставленностью миру». Оно лишь потребляет образы. Любопытное, неспокойное ви́дение соответствует быстрому переключению каналов. Присутствие бегло просматривает мир. Быстрое просматривание как «непребывание», говоря онтологически, есть несобственный модус бытия-в-мире. Онтологически понятое беглое просматривание рассеивает присутствие до несобственной экзистенции.
В год выхода «Бытия и времени» (1927) Хайдеггеру еще не был известен телевизор. В Германии первые экспериментальные трансляции датируются только 1934 годом. А вот радиовещание в «Бытии и времени»