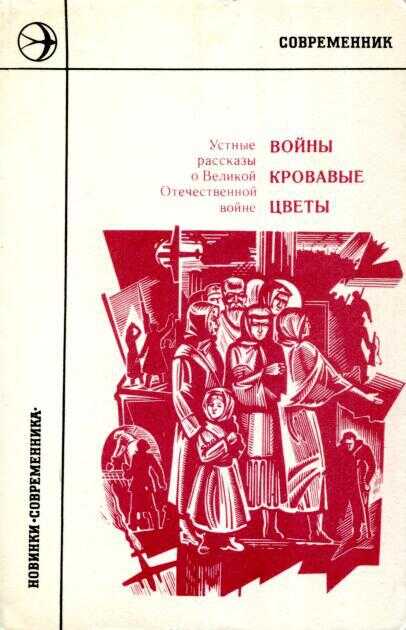и взводный открыли огонь по фрицам с тыла. У фрицев началась паника. Стали они по полю рассыпаться. А тут перекрестный огонь пошел, стали работать два вражеских пулемета, что с одного края села стояли, и те два, что стояли с другого края. А фрицы по своим стали стрелять. Открыли стрельбу со штаба прямо по улице, стреляли больше но хатам.
Вот когда они открыли стрельбу по хатам, Стрелец и его люди забрали раненых и стали отходить. Как стали отходить, стрелять бросили, так фрицы скорей, скорей на лошадей и уехали в Трубчевск. Говорят, у фрицев убитых было около тридцати человек, а раненых неизвестно сколько.
13. Мать партизанская
Жизнь моя, как дорога через всю землю: всего на ней хватало! Говорят, что век-то человеческий пестренький: и так поживешь, и так. С веку я живу в своем Уфалове, тут родилась, выросла, замуж вышла, семью нажила. Места у нас красивые, отрадные. Поля-то, поля какие! И лесу хватает! А уж за войну-то хватили горя.
Пошла я как-то в лес поутру. Вдруг увидала: батюшки, что ж такое, человек не человек! Тень, ну просто тень! На ногах не стоит! До того слабый — ну, не может даже за дерево держаться. Подошла, подхватила его, а он так и повис на руках, как неживой. Кое-как приволокла, запрятала его в амбар. Об тут так и повалился, ну до чего иссох: черный весь сделался! Две недели выхаживала, на ноги поставила. А потом он ушел: все к своим рвался.
Потом осенью в ночную пору, тогда, в сорок первом году, в окно постучали. А уж в Уфалове-то немцы были. «Анна Дмитриевна, мы свои, русские. Откройте. Поговорить надо». Пустила, а их пятнадцать человек, окруженцев! Что делать? Продрогли все, оборвались. Скорехонько истопила баню, намылись, из одежи отдала, что было. Тут же стали и обсуждать, как организовать партизанский отряд. И взялись за дело. Командир — Попов (жив, живет в городе Краснодаре, ко мне в гости ездит, приезжает обязательно!).
У нас в то время окруженцы бродили по лесам, боже мой, сотни окруженцев! Все старались пробиться к своим, за линию фронта. И первым делом партизаны принялись выводить людей из окружения. А как? Ведь кругом немцы да и местность надо знать!
Вот и попросили: «Анна Дмитриевна! Давай уж, мать партизанская, выручай». Бывало, оденусь как нищенка. Тряпье всякое порванее и сума через плечо. Вот и просишь милостыньку будто бы. Обошла Волково, Сорокино, Бахметово, Шиздерово, Городок и другие деревни. Не куски хлеба, не картошку собирала, находила надежных людей, а те вот тоже так шли дальше по деревням.
Придешь назад к партизанам-то, а они уж ждут! Все им расскажешь, где стоят немцы, какие машины, какие части и по каким тропинкам идти, где своих людей встретить. Вот так и вывел партизанский отряд из окружения больше двух тысяч человек!
И все бы ничего, да приехал в деревню фашистский карательный отряд. Командир, по-ихнему обер-лейтенант, занял мой дом под штаб. Действовать стало труднее.
А тут сын мой Ванек из плена с тяжелой раной бежал. Явился домой. Мешкать не приходится: пошел и поступил к гадам на службу. Это чтобы втереться к ним. Ему дали трактор, стал ездить за продовольствием. Раз ехал да по дороге от партизан взрывчатку и взял! Все будто хорошо, да не придумаем, как в подпол ее положить. Говорю сыну: придется картошку копать. Накопали первые четыре ведра, несем в руках в избу. А мой постоялец как заорет: «Ты что, матка, куда прешься?» Ну, я тоже на него как закричу: «В подпол, вот куда! Зима придет, небось немецкая армия есть попросит!» — «А-а, — говорит, — гут, гут, матка, неси!» Носим… На дно ведра взрывчатку, сверху — картошку. Пошло дело, к вечеру управились. Стали ждать подходящего случая.
И вдруг арестовали командира отряда Попова. Нашелся подлец, выдал его. Я так подбилась к немцам, чтоб меня спросили про него. Вот они и спрашивают, кто он, правда ль, партизанский командир? Я говорю: «Что вы, ну, какой он командир?» И назвала другую фамилию, будто из дальней деревни. Пока они выясняли, вечер наступил, а там и сбежал Владимир-то Иванович, прямо из-под виселицы.
Тут арестовали сына и за мной пришли. Явился полицай, приставил наган к лицу, допытывается: «Где Попов?» — «А твоя мать знает, — говорю, — где тебя, собаку, носит?» Он мне в зубы кулаком! Потом хвать за руку и — к стене. Поднимает пистолет. Бах! Бах! Щепки от стенки мне в лицо. Убьет, думаю, гад этакий! Кричу: «Что ж ты, сволочь, делаешь? Ведь русский же!»
Повел меня на улицу, к оврагу. Иду, прощаюсь с белым светом. В ту пору покойника несли. Народу собралось. Смотрят: «Куда тебя, Дмитриевна, никак на расстрел?» Видят, что не шутит он, мучитель-то. Тогда кто-то как закричит: «Партизаны! Партизаны едут!» А по большаку на самом деле немцы ехали. Где тут ему разбираться: он тут испугался да деру дал не хуже зайца! А я по кустам, по кустам да в лес!
14. Девчонки все молоденькие
Были у нас, приходили к нам немцы-то. Но стояли они у нас мало, недолго. Наша деревня Ананьино далече от большака была, ну и — понятно дело — боялись немцы к нам часто наведываться.
Бывали они у нас где-то в сентябре — декабре. Мы ничего не давали им, прятали все.
Раз, это было двадцать первого декабря, по старому[9], пришли ко мне партизаны. Их было вроде семь, да, семь человек: три девчушки да четыре мужика.
Девчонки-то все молоденькие такие. Им бы еще гулять да веселиться, а они — знамо ли это дело — с немцами биться стали. Одну из них — Женя ее звали — я дюже хорошо запомнила. Такая молоденькая была: годков двадцать ей было. А прочим девчонкам-то и того меньше.
Пришли они третьим днем, принесли с собой материала белого, да много чего-то было. А у меня в ту пору была машинка швейная (откуда они это узнали!). Ну, значит, была у меня эта машинка, а они и просят: мол, помоги нам, тетя Маня, покроить да сшить кой-чего. И кроили какие-то белые халаты из белого материала — а зима ведь была! Всю ночь божию мы кроили: кроила-то я, а другая девушка (забыла, как ее звать-то, кажется, Нюрой) стала шить.
Пришла еще ночь. Это было как раз рождество, с шестого на седьмое января. Ну, попросили они меня чего-нибудь им в дорожку поесть положить. Встала я, сделала им