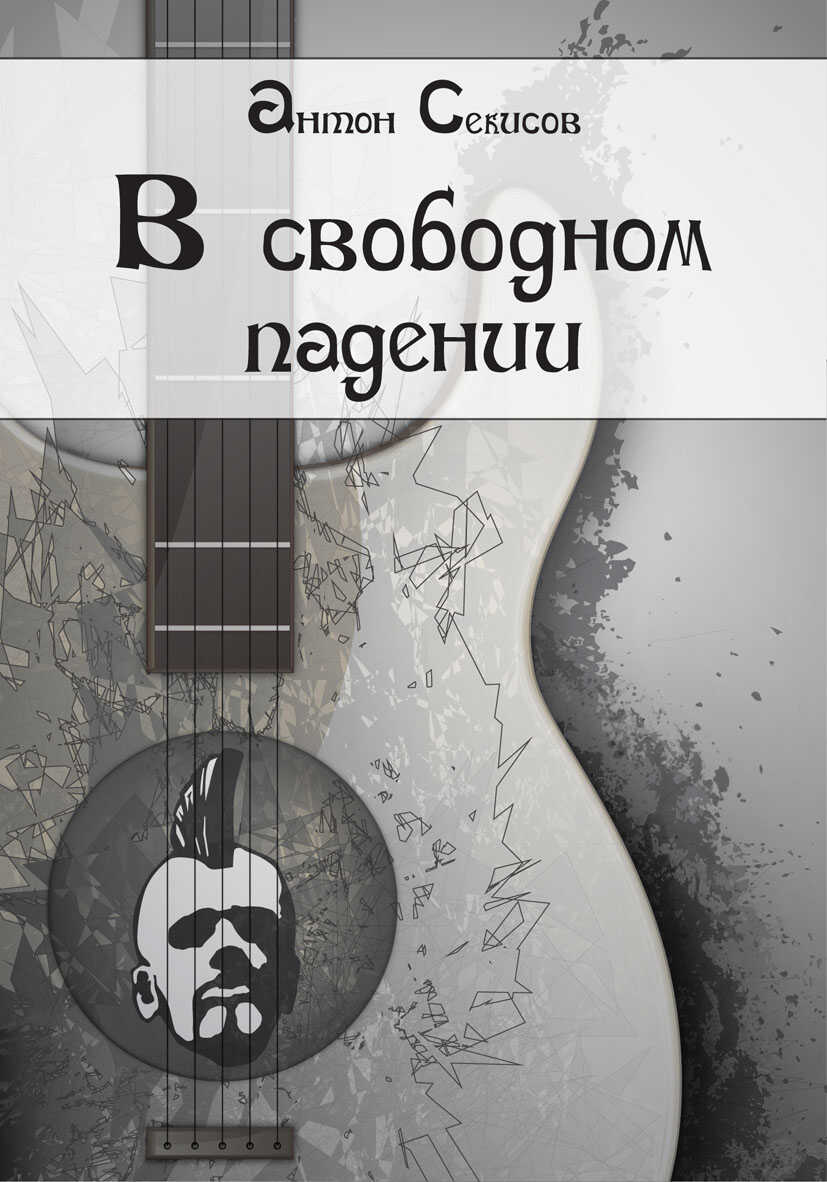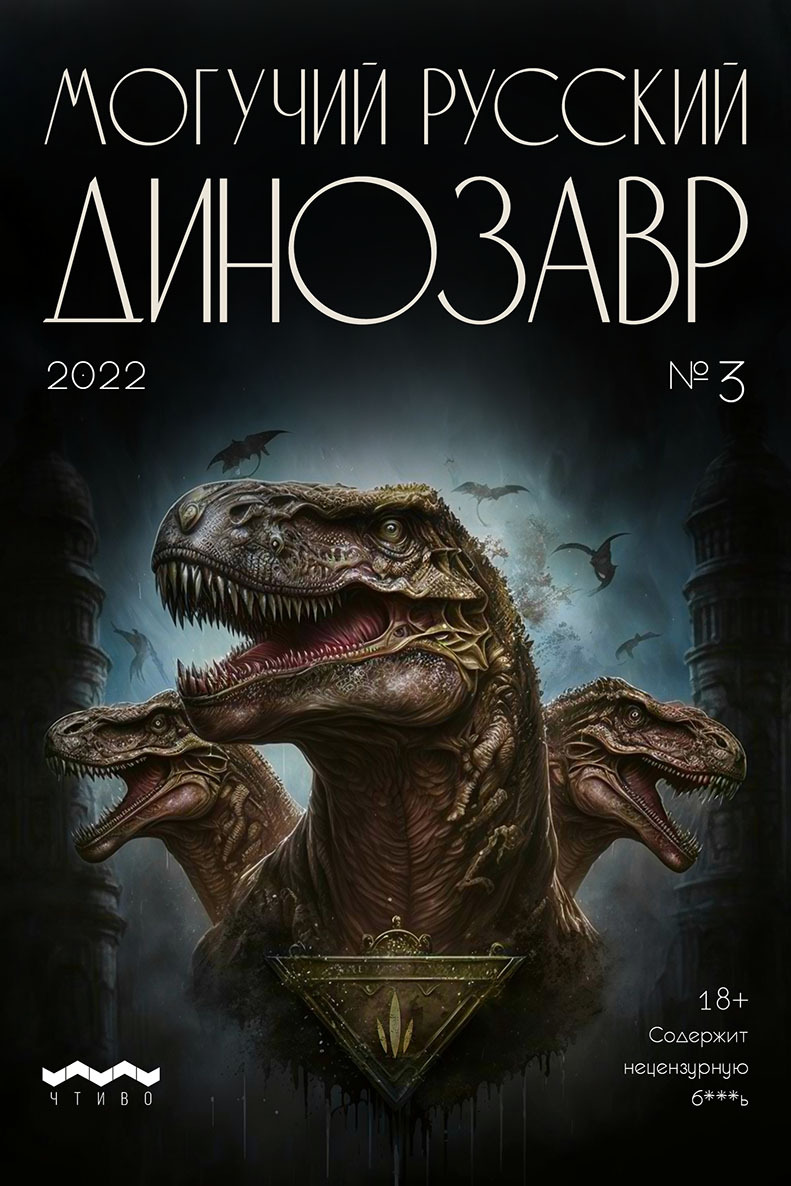здесь он может отдохнуть, пусть даже ненадолго.
Преподобный объявляет время молитвы, и все синхронно закрывают глаза, склоняют головы и берутся за руки. Сидящая рядом женщина мягко берет его руку и крепко сжимает. Другую руку берет мужчина, с которым он вошел; у него теплая мягкая ладонь – совсем не скажешь по его наружности. Сейчас Майклу нравится держаться за руки с незнакомцами, хотя раньше он бы на это ни за что не пошел. Прихожане выкрикивают молитвы что есть мочи. Господь, молюсь за больную раком мать; молюсь за бездомных и голодающих; молюсь за тех, кто бежит от военных конфликтов в мире, и тех, кто не может бежать: в Сирии, Конго, Сомали, Западном Папуа, Судане. Майкл закрывает глаза и про себя произносит:
Человек внутри меня живет во всеми забытом городе, он блуждает в поисках компании; другой жизни, другой души, прикосновений, объятий. Город бесконечен, у него нет границ, не ясно, где он кончается, где начинается. Каждый день этот человек встает и идет. Он идет, пока подошвы стоп его не почернеют и не будут гореть, как тлеющий уголь, пока конечности не обессилят и он больше не сможет идти. Тогда он падает на месте и отдыхает – у него нет дома. На следующий день он просыпается и снова идет, и идет, и идет. Но каждый день проходит чуточку меньше предыдущего, устает чуточку больше. Человек знает, чувствует, что придет время, и он уже не сможет идти, и его единственное желание – это лечь и уснуть навсегда. Он чувствует, как желание это растет, а тело поддается ему, словно он пытается вскатить камень на гору, только гора – это улицы, а камень – это его тело. Этот человек хочет уснуть, навсегда, он знает, что больше не может идти. Этот человек я. Человек без молитвы, без надежды, без дома.
Майкл открывает глаза: молитвы уносятся в воздух, а паства поглощает его, как океанская волна, готовая совершить омовение; святая волна, набегающая на него. Преподобный произносит последнюю молитву, и все в унисон вторят: «Аминь». Прихожане переключают внимание и тут же начинают болтать, тепло, радушно, а Майкл под шумок ускользает, пробираясь по залу вдоль боковой скамьи. На выходе он снова видит табличку «memento mori» – «помни, что ты смертен».
Пройдя несколько миль, Майкл возвращается домой. Ноги болят. Он садится за стол с чашкой согревающего чая в руках и смотрит за окно на яркие огни города на фоне темнокожего неба. Мать. Он не может думать ни о ком, кроме Мами. О ее словах, ее силе, как она просто держалась и продолжала жить. Что-то внутри – борьба в душе – подталкивает его написать ей. Майкл с ней еще не связывался и не стал бы. Он ведь так и хотел – исчезнуть постепенно. Но чувству внутри невозможно противиться. Он берет ручку, листок и пишет.
Мами,
Пусть ты прочтешь это, отдохнув и ни о чем не тревожась. Пусть солнце никогда не заходит за горизонт, птицы не прекращают петь, цветы пусть цветут вечно, а все прекрасные вещи в мире приумножатся. Ты помнишь? Когда я был маленьким, мы писали друг другу, как бы далеко или близко ни находились. Я писал тебе стихи:
Как птица, облаку в небе подобно
Как листья прекрасных дерев
С тобой я летаю свободно
Но буквы закончились. Слов не осталось. Я запер их в себе. Позволил забрать их ярости, гневу. Я познал горе слишком рано, слишком юным. На что может надеяться ребенок, увидевший жестокую рожу мира? Нас разделили границы. Я не спрашивал: «Где мамочка?» – я спрашивал: «Мамочка умерла?» Пресные выражения лиц вырастивших меня незнакомцев были красноречивее молчания. Помнишь ли? Когда мы вновь увиделись, я уже был слишком большой, чтобы носить меня на руках, подсаживая на один бок, как ты делала раньше. Тогда я обнял тебя и пообещал, что никогда не покину. Что нас ничто не разделит: ни границы, ни войны, ничего. Но обещания, как легенды – сказочки для детей. И я не могу больше сдержать своего обещания, ведь мне ничего не пообещали взамен.
С любовью,
Майкл.
$6 512
Глава 13
Академия Грейс Харт, Лондон; 17.30
Понедельник: дождь яростно лился из громовых туч. Серый мрак парил в небе, как перевернутая бродящая в нем тень. Я стоял у школьной проходной и смотрел сквозь высокие окна, дожидаясь лучшего момента, чтобы уйти. Я смирился с тем, что промокну, и вышел, держа портфель над головой. Всего через несколько спешных шагов на цыпочках я был весь в воде, так что перешел на побежденный шаг. Послышался смех, не мелкого бесенка, а чей-то знакомый, смех друга, который смеется не то над тобой, не то вместе с тобой. Я обернулся – Сандра давилась со смеху, а сама была совершенно сухая под огромным зонтиком. И она имела на то право: вся такая уютная, как свежий хлеб из печи, а я выглядел так, будто принял душ, не снимая одежды. Она приподняла зонт, чтобы я мог под него встать. Мы направились к станции.
– Как прошел день? – спросила она радостно, все еще посмеиваясь. Я не ответил. Понимал, что она ждет ответа. Пока мы шли, у нее то и дело опускалась рука, и зонт бил меня по голове.
– Так, придется кое-что поменять. Давай я буду держать зонт. – Я забрал зонт и нес его достаточно высоко, чтобы не задеть никого из нас. – Видишь? Куда лучше. – Она улыбнулась. Мы пошли дальше, она обняла меня рукой за бок, прямо над тазовой косточкой, продолжая улыбаться; мы шагали нога в ногу. Было странно, но хорошо. Я обратил внимание на ее парфюм: цветочный или ягодный букет. Он чуть поднял настроение.
– Как прошел твой день? – спросил я.
– О, хорошо. Но нужно проставить еще столько оценок. Эти детишки сведут меня с ума. И клянусь, миссис Сандермейер взяла меня под прицел. Знаешь, как она иногда заходит выборочно в класс посреди урока и стоит у дальней стены, наблюдая, как ты преподаешь? Она ко мне так два раза приходила! За два дня!
– Со мной она такого не делала. Ты права, что-то она в тебе нашла. – Сандра раздраженно посмотрела на меня, а я лишь посмеялся.
Мы дошли до главной улицы, где нас встретил мужик, громким голосом кричавший всем прохожим: «Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!» Мы подошли