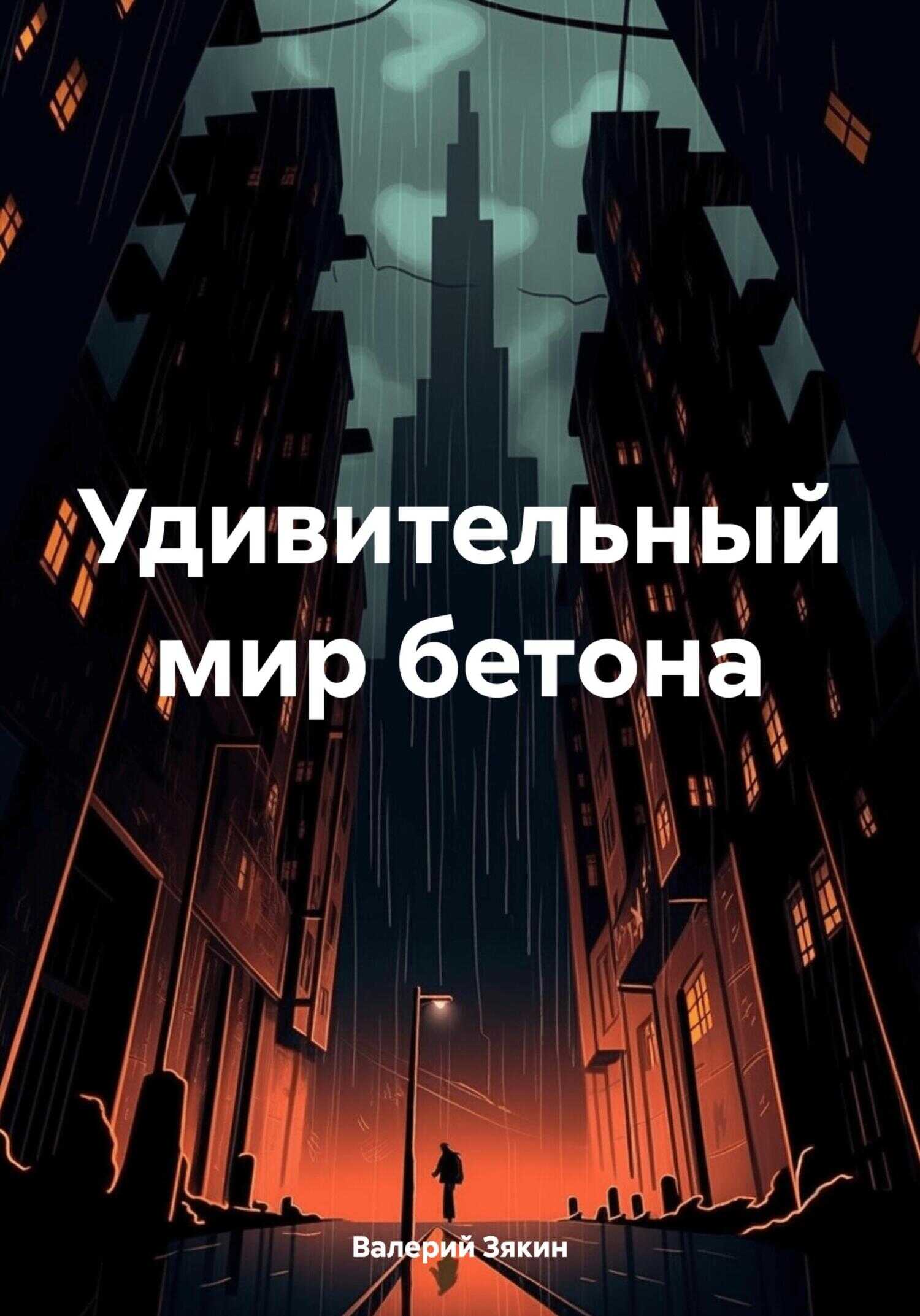дедовы вещи в дом, – велел исполнить его волю. Наказал также никогда не вынимать впустую из ножен шашку… Велел всегда помнить, что это – великий грех.
Наказы деда Павла лейтенант усвоил хорошо, постарался впечатать их в память как можно прочнее, науки дедовы тоже усвоил…Дед был очень толковым пластуном, знал много боевых приемов и успел передать их своему сыну, а тот по цепочке – уже Николаю. Назывались дедовы науки в старину знатно – «казачий спас». Казачий спас учил людей картошку печь без огня, лечиться без лекарств, чинить обувь без шила и дратвы, из любой, самой дремучей чащи, где невозможно сориентироваться, выходить точно в нужное место, переплывать под водой большие реки, невидимо для врага, прятаться так надежно, что ни чужие, ни свои не могли найти, без веревок забираться на крыши высоких зданий и макушки дымовых труб, превращая эти точки в наблюдательные пункты, и так далее… Науки деда Павла здорово помогли лейтенанту Тихонову.
Да и умение метко стрелять – это, наверное, тоже от деда Павла, его наследство… В крови передалось, из крови в кровь.
По глазам деда Павла, по беспокойному выражению, возникшему в них, лейтенант понял, что дед тоже видит его, знает, кто находится перед ним, готов помочь, но помочь ему не дано…
Оба они пребывали сейчас словно бы в полосе тумана или дыма, в разных измерениях, спустя мгновение между ними пронеслась некая потусторонняя сила, постаралась смешать все предметы и вообще как при взрыве разбросать все, что находилось рядом… Тихонов замотал головой протестующе, прокричал что-то, но крика своего не услышал, слова его, наполовину немые, были неразборчивы – смятые, сбитые в сырой неряшливый комок слова…
Он протянул к деду здоровую руку, вторую протянуть не смог – рука сильно отяжелела, да и к прежней боли прибавилась боль новая, он улыбнулся прощально, дед в ответ озабоченно покачал головой. Уголки рта, спрятанные в бороде, раздвинулись, лицо сделалось шире, борода – окладистее, дед хотел что-то сказать Тихонову, но не смог, растворился в слабо шевелящейся дымке то ли невидимого пространства, то ли небытия.
Лейтенант ощутил, что он лежит на сырой липкой земле, на закраине оврага, щеку ему обжигает что-то очень холодное… Он застонал, в следующий миг попробовал сдавить стон зубами, зажать его, но не тут-то было, боль оказалась сильнее его возможностей.
Стон услышали немцы, по лещиннику снова ударили автоматы, а потом откуда-то сверху, картинно кувыркаясь, скатилась граната на длинной деревянной ручке и, шлепнувшись рядом с лейтенантом, замерла – влипла в вязкую плоть земли, застряла в ней, как в густом повидле.
Лейтенант знал, что у немецких гранат время от удара бойкового механизма о капсюль (граната взводилась автоматически во время броска) до взрыва на две или три секунды больше, чем у наших, советских гранат и, извернувшись, словно большая рыба, одолевая боль, цапнул гранату пальцами, чтобы швырнуть ее в приближающуюся цепь, либо просто пустить по склону вниз, но времени Тихонову не хватило.
Немецкая граната взорвалась у него в руке.
С ореховых веток слетели последние листья, лейтенанта вдавило в землю, посекло, полевую планшетку, висевшую у него на боку, оторвало и вместе с листьями смело на дно оврага.
Очень удивились немцы, когда обнаружили, что отступление окруженцев прикрывал всего один человек, и тот был изрублен пулями и осколками донельзя. Больше в овраге никого не оказалось. Группа красноармейцев, которую было приказано уничтожить, благополучно оторвалась от преследования.
Хотя не совсем благополучно – в одной из стычек группа потеряла еще одного человека – зенитчика Фомичева. Остальные дошли до своих.
Побежимов, оставшийся в группе за командира, рассказал о последнем бое лейтенанта Тихонова, а потом и написал об этом в своем донесении, не забыв подчеркнуть, что лейтенант сумел подбить тяжелую технику противника, скорее всего – самолет.
Поскольку группа отрывалась от немцев бегом, лишь иногда переходила на скорый шаг, иначе было не оторваться, то на бегу они засекли за спиной тяжелый взрыв, а потом – высокий черный столб, поднявшийся до середины неба. Все это произошло в районе оврага, в котором остался раненый лейтенант.
Сведения Побежимова проверили войсковые разведчики и подтвердили: недалеко от оврага, в поле, лежит сгоревший, развалившийся на части «юнкерс».
Посмертно лейтенант Тихонов был представлен к ордену Красной Звезды. Орден был привезен в родной хутор Тихонова уже после войны и на общем собрании жителей вручен матери лейтенанта.
Через двадцать пять лет после этого торжественного события волгоградские поисковики, работавшие в местах бывших боев, нашли в овраге, где Тихонов держал последнюю свою оборону, покоробленную, ставшую фанерно-жесткой от времени и влаги полевую планшетку.
В планшетке той лежало прощальное письмо лейтенанта. Сохранилось письмо, не погибло. Лишь в двух местах бумагу взяла плесенная прель, в одном месте оставила свой след какая-то мелкая бумагогрызка, – ну словно бы дробью секанула по письму, прошлась острыми зубами, а в остальном ничего, строчки не пропали, не смылись, слова сохранились все до единого.
Содержание письма было, конечно, обычное, от него даже фронтом особо не пахло, но часть присутствующих, – прежде всего женщины, которые помнили войну, – заплакали: ведь это письмо было вестью из того времени, которое они помнили, помнили и поминали в своих молитвах, в песнях, в разговорах, в думах, которое, будто ожог вызывало у них слезы.
Вызвало слезы и сейчас. Память о беде, даже минувшей, обычно сидит в человеке долго. Так было всегда.
Письмо вместе с планшеткой и фотоснимком лейтенанта Тихонова, присланными с хутора, отправили в областной центр, в краеведческий музей: место этим свидетельствам того задымленного, закопченного, тяжелого, яростного времени было там, и только там.
Жители же Большого Фоминского объявили у себя денежную подписку, сложились, и вскоре на земле, где погиб их земляк, поставили блестящую, мастеровито сваренную из нержавейки пирамидку, увенчанную золотистой латунной звездой, а на боку памятника написали, какой подвиг здесь был совершен…
И еще. Последнее, как иногда говорят мудрые теоретики, а их поправляют практики, имеющие хороший опыт: «Не последнее, а крайнее»… Всякая война, даже малая, – это проклятое пекло, так просто и горько высказался один писатель-фронтовик, пекло, в котором сгорает все: и судьбы человеческие, и сами солдаты, и техника, и города с селами и даже целые государства. Все это, увы, так. Сгорает лучшее, что сумела создать матушка-природа – в большом количестве погибают люди, к войне никакого отношения не имеющие, в том числе и самородки, нацеленные на мирную жизнь и созидание, извините за выспренный слог, конструкторы завтрашнего дня, погибают лучшие и прежде всего – таланты. Война обладает страшной способностью распознавать их в первую очередь, находить и уничтожать.
Кто знает, может быть, из Тихонова получился бы второй маршал Рокоссовский