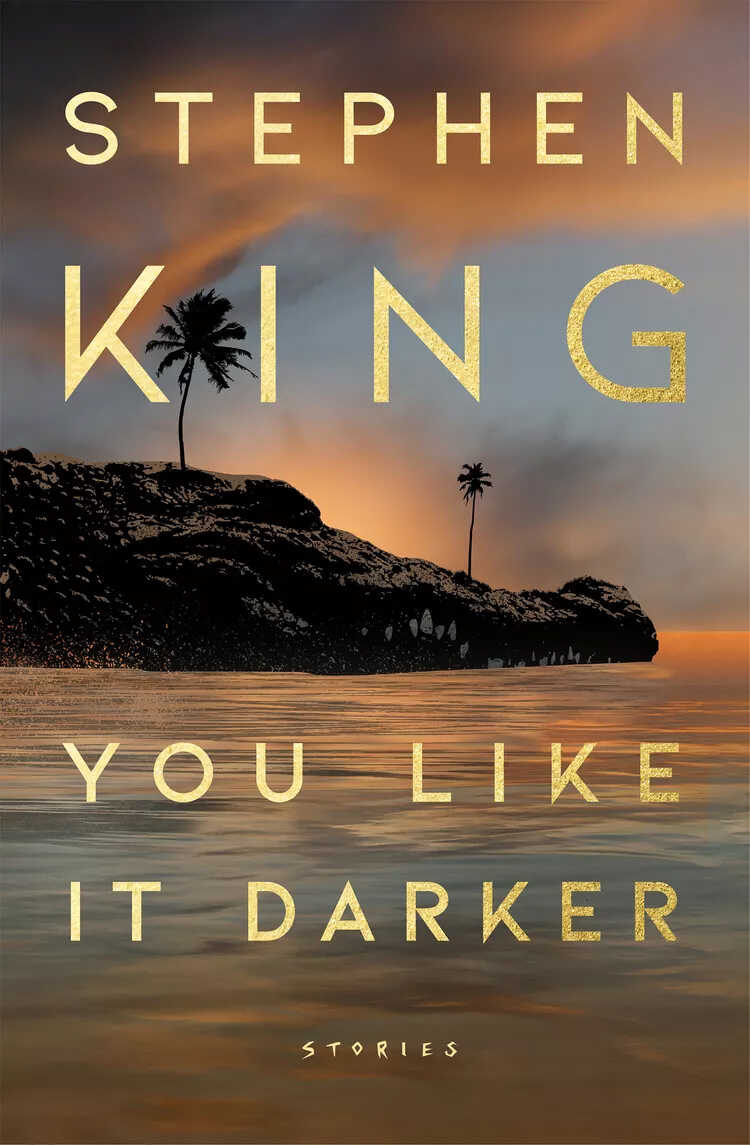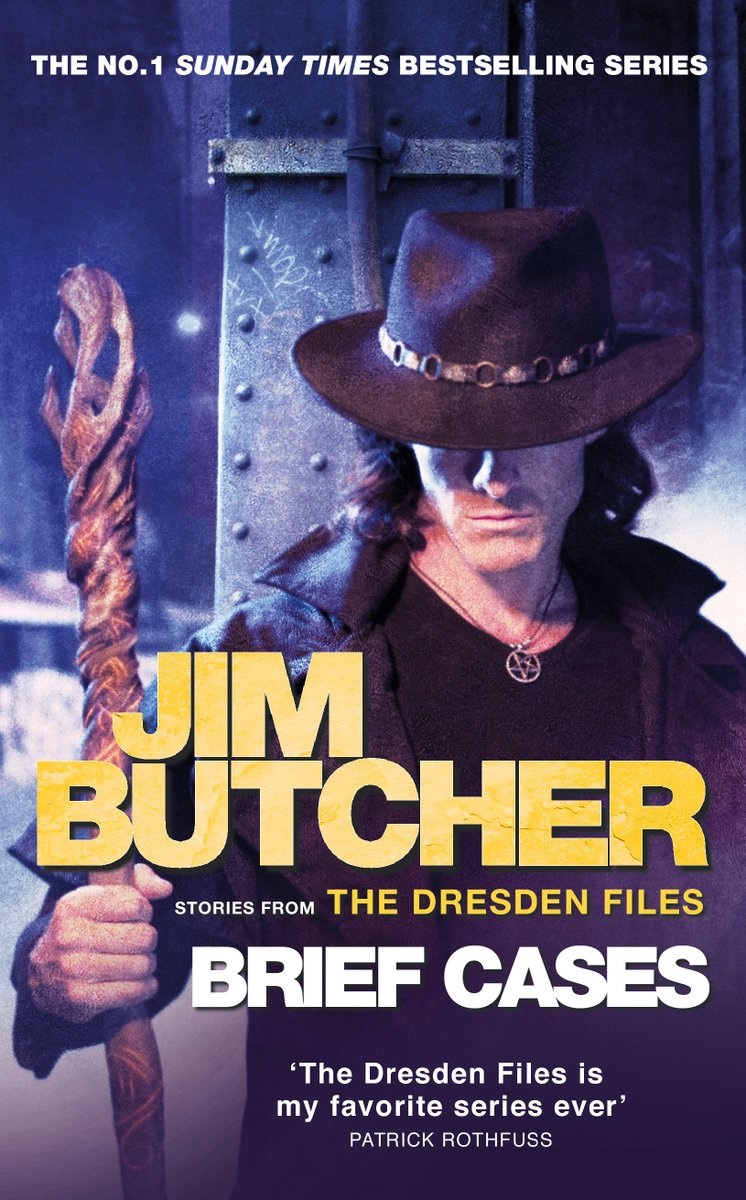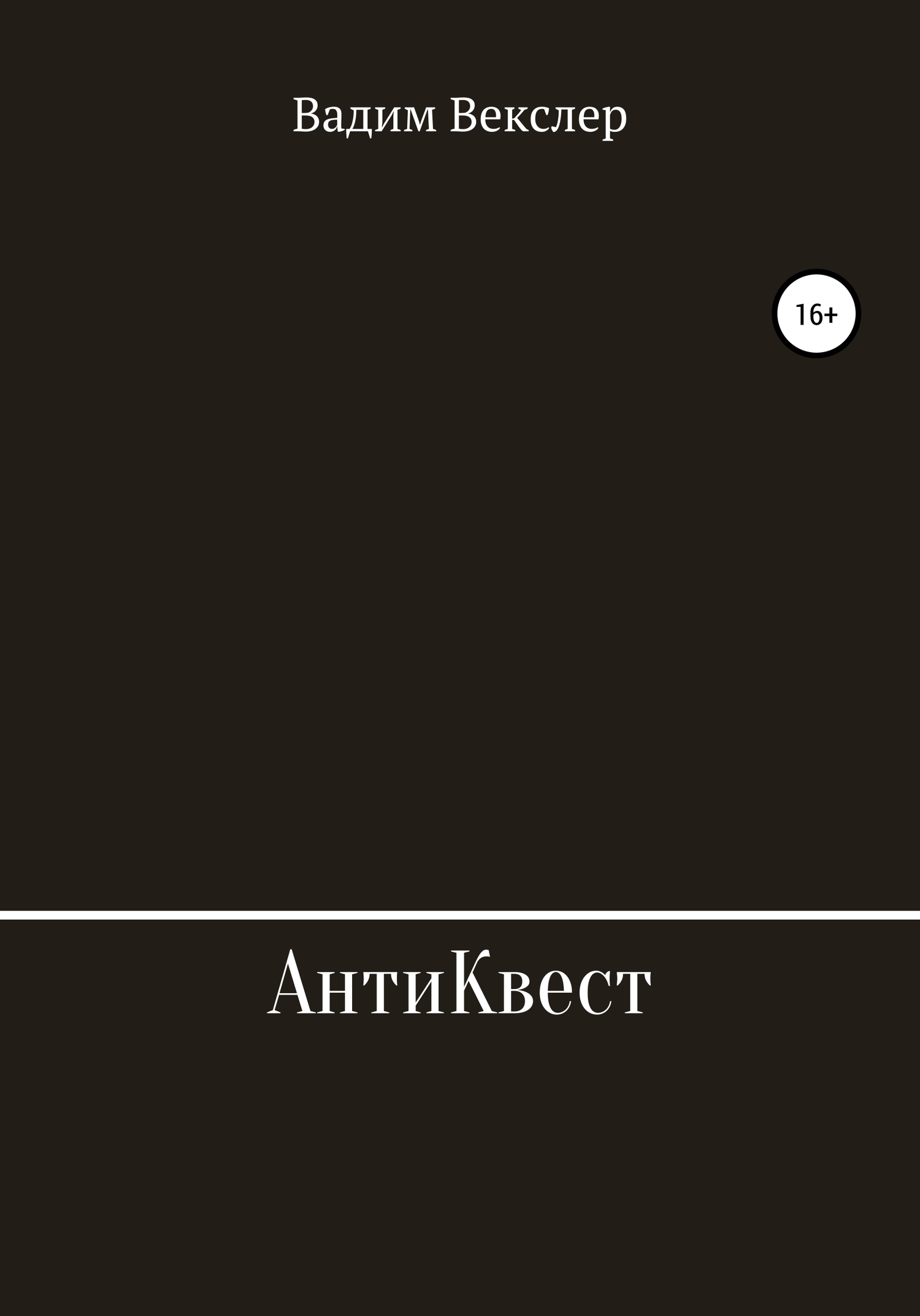счастливым; если бы я смогла вдруг явить твоему взору всю чудовищную жестокость и неправедность, что творятся в этом царстве от имени великого визиря, твое сознание собственной невинности улетучилось бы как сон, твое сердце разорвалось бы на части, ужас и отчаяние убили бы тебя на месте, не дав даже времени пролить слезу или испустить стон. О, какой правитель не повредился бы рассудком от ужаса при виде всех злодейств и страданий, терзающих его царство!
Халиф. Ради всего святого, Бен Хафи, загради уста немилосердного духа! От таких речей у меня сжимается сердце и кровь леденеет в жилах. Видит Аллах, сам я всегда стремился поступать праведно, а если где и ошибался, так в том повинны те, кто вводил меня в заблуждение. В последний день мира я смело приду к престолу Страшного суда вместе с моим визирем и прочими министрами, приду и скажу так: «Единственным моим желанием в земной жизни было воздать по справедливости всем, но, будучи просто человеком, я был вынужден использовать других людей в качестве своих инструментов: мои доверенные лица, возможно, и согрешали, но мое сердце – невинно».
Глаза халифа были воздеты к небу, ладони прижаты к груди, и глухой карла Мегнун подумал, что владыка обращается к Всевышнему, а потому упал на колени и зашептал молитву. С умиленной улыбкой халиф возложил руку карле на голову и молвил:
– В тот день ты будешь стоять ближе всех ко мне и свидетельствовать о моем сердце. – Тут уныние омрачило его чело, и после краткого молчания он тихо добавил: – Лишь одного обвинителя буду я страшиться в Судный день… моего родного брата.
Бен Хафи впился в лицо халифа взглядом, выражавшим сильнейшее душевное волнение, а спустя несколько мгновений потупился, и слеза скатилась на его седую бороду. Прерывистым голосом он возобновил повествование:
– Дева-дух продолжила свою речь…
Халиф. И очень жаль! По мне, так лучше бы она придержала язык.
Бен Хафи. Аморассан тоже хотел бы этого, и бесстрастный голос пронзил его до самой глубины сердца, когда она продолжила так:
– Обрати свой взор на безмятежную реку, что вьется там средь зеленых лугов, сверкая в солнечных лучах. Воды ее несут к океану труп цветущего отрока, тайно убитого ближними родственниками из-за богатого наследства. Не спрашивай у меня имени убийцы! А даже назови я имя, преступление все равно останется покрытым мраком: обвинителю никто не поверит, исполнителям немало заплачено, а заплативший сидит средь тех, кому ты передал надзор за сиротами в Гузурате. Смотри! Смотри! Вон древняя старуха осторожно пробирается меж кустов и складывает в корзину разные соцветья. Она равнодушно попирает стопами полезные и целебные травы, но собирает цветы, таящие яд в своих ярких чашечках. Они нужны ей для будущего злодейства, за которое уже заплачено и предотвратить которое ты не в силах. О, слышишь? Топот копыт! Жертва приближается, а убийца уже затаился в засаде. Вот звенит тетива, и отравленная стрела свистит в воздухе! Она пронзает невинную грудь. Человек падает с коня, и злобная радость ликует в сердце убийцы. Человек бьется в судорогах и умирает. Слышишь, Аморассан? Слышишь? То был предсмертный стон героя – то был предсмертный стон Халеда!
Аморассан вскрикнул от ужаса и удивления. Вся кровь у него отхлынула от сердца, и он без памяти рухнул наземь.
О вождь правоверных, если вам любопытно увидеть Аморассана в горе и бедствии, скоро ваше желание сбудется.
Халиф. Нет, Бен Хафи, не делай его несчастным в угоду мне. Ты ведь знаешь, я всегда сочувствую даже тем, кто заслужил свои страдания. Насколько же больше мне будет жаль такого человека, как твой Аморассан, особенно потому, что он имеет несчастье постоянно общаться с пренеприятным духом.
Музаффер. И все же позволь мне заметить, о государь, что дева-дух говорит весьма разумно: она рисует природную испорченность человека в самых правдивых красках и тем самым дает понять, что с людьми необходимо обращаться сурово и что бесполезно пытаться исправить их пороки мягкими средствами. А возможно, пресветлый владыка помнит, что именно такое суждение я высказывал каждый раз, когда…
Халиф. Я прекрасно помню твое суждение, Музаффер, и очень хотел бы, чтобы ты забыл его. Молчи, ни слова больше! Пусть Бен Хафи продолжает.
Глава VIII
…Клятвопреступник, лжец…
Ты, кто под внешностью благопристойной
Таил убийства замыслы…
…Предо мной другие
Грешней, чем я пред ними.
«Король Лир»[103]
Когда Аморассан очнулся и поспешил обратно в столицу, в каждом вздохе ветра ему мерещился свист отравленной стрелы, в каждом случайном звуке чудился предсмертный стон Халеда.
Первым делом он послал слуг к нему. Выяснилось, что спозаранку Халед отправился в свой загородный дом. Тогда он велел слугам последовать за ним и просить о немедленном возвращении. Через несколько часов, проведенных в мучительной тревоге, Аморассан увидел главного начальника городской стражи, входящего к нему в покой, и услышал от него, что доблестный Халед убит. Значит, дева-дух говорила правду! Визирь в отчаянии стиснул руки и дрогнувшим голосом спросил о способе убийства.
– Он погиб от отравленной стрелы, – отвечал начальник стражи. – Но убийца уже схвачен и посажен за решетку. Негодяя зовут Кассим, он долгое время был открытым и непримиримым врагом Халеда. Его, вооруженного луком и колчаном со стрелами, нашли неподалеку от рокового места.
Вместе с начальником стражи визирь направился во дворец султана. Они застали последнего в обществе Абу-Бекера и объяснили печальную причину своего прихода.
– Новость уже дошла до меня, – холодно молвил султан. – Я уже отдал необходимые распоряжения о допросе преступника и завтра сам свершу над ним суд.
Сказав так, Ибрагим отвернулся и продолжил малозначительный разговор с Абу-Бекером.
Аморассан был глубоко уязвлен явным безразличием, с каким султан отнесся к насильственной смерти человека, которого прежде называл самым храбрым и верным защитником своего трона и победам чьего меча он и его народ столь часто бывали обязаны своей безопасностью.
– Султан безнадежен! – сказал он себе. – Абу-Бекеру удалось превратить сердце государя в подобие собственного.
Эта горькая мысль настолько усугубила душевные страдания Аморассана, что он едва ли был в силах выдержать их тяжкое бремя, а тем более вступить в схватку со своим искушенным и коварным врагом. Он оставил поле боя за Абу-Бекером, и дрожащие ноги с трудом донесли его до дому.
Аморассан провел ночь в мучительных раздумьях, а утром поспешил в диван[104]. Султан уже восседал на