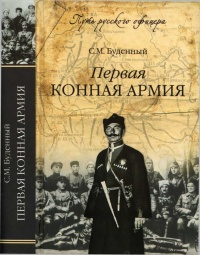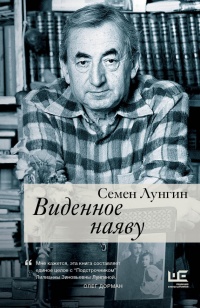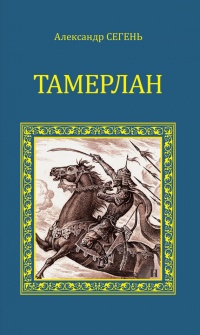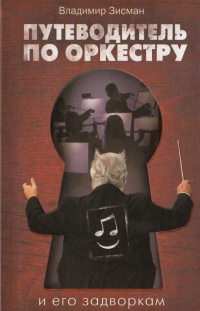— Батюшко, а се я сам выпек, — сказал сын Андрюша, выкладывая перед Иваном своё творение — блин, на котором, впрочем, трудно было понять, что изображено.
— Ах ты! — всплеснул правой рукой Державный. — Что ж сие? Какая красота!
— Как же ты не видишь! Да это зверь елефан, иначе сказуемый мамут, из сказки про Дедешу.
— Как же не вижу? Вижу! — похлопал сына по плечу государь.
— Ешь его.
— Не могу, Андрюшенька, не лезет в меня больше. Видать, я своё всё съел уже в этой жизни.
— Как же так? А я-то старался!
— А ты прикажи отнести его в мою келью в Чудов. Я завтра с утра и съем, как только встану и помолюсь.
Сколько вокруг добрых и родных лиц! На каждое можно глядеть и не наглядеться. И каждому найдётся, что сказать в Прощёное воскресенье, за что повиниться. Перед каждым в чём-то да виноват Державный Иван. Да и они не без грехов, чего уж там — жизнь прожить и не согрешить всё равно что поле пройти, травы не измяв. А особенно при столичном дворе.
Только бы не повторилось то страшное, что произошло в день рождения! Как бы не хотелось снова испортить людям праздник.
Чувствуя себя уже изрядно насытившимся, пьяноватым и усталым, государь со вздохом повелел вести его вон из Золотой палаты, назад — в Чудову обитель.
— А может быть, тут немного подремлешь, да и опять? Вон сколько ради твоих именин повара наши натворили, — сказал Василий Иванович.
— Тут подремать? — задумался Державный в нерешительности. Хорошо бы, конечно. Он ведь любил подолгу сиживать на пирах, любил глядеть, как всё вокруг ест, пьёт и веселится. В молодости полдня мог не выходить из-за стола. После пятидесяти начал уставать. В последнее время часто, бывало, подвыпив и отяжелев от еды, засыпал прямо за столом, и никто над этим не смеялся, а напротив того, уважали, что государь не хочет расставаться с ними — поспит немного, встрепенётся, да и снова весел, снова пьёт, жуёт да балагурит. Одним только чужестранцам глумливым сей обычай Державного смешным и нелепым казался. Ну и дураки! Может, и впрямь теперь тоже тут подремать, а потом ещё пару блинков под медок или водочку умять?
— Побудь с нами, отец! — вторил Василию другой сын, Дмитрий Жилка.
— Нет, сынушки, — вздохнул Иван Васильевич с сожалением. — Низы мои тяжелы сделались, к земле тянут. Поползу я в свою келью-берлогу, а вы тут без моего участия веселитесь за моё здравие. Томительно в мои годы быть именинником.
— Какие ж твои годы-то, Державный! — воскликнул подвыпивший дьяк Андрей Майков. — Шестьдесят пять только! Я куда старее твоего, а вот сижу и буду сидеть тут. Налейте мне ещё!
— Кесарю — кесарево, а дьяку — дьяково, — ответил Иван. — Ангелу моему, Иоанну Златоусту, и вовсе шестьдесят было, когда он помер.
— Кесарю — кесарево, а дьяку — поддьячую, — рассмеялся старицкий дворецкий Иван Ощерин, сын покойного любимца Ощеры.
Но Державный уже не слышал его, покидая Золотую палату кремлёвского дворца и вспоминая свой сегодняшний сон про полёт под потолком кельи, шестьдесят лет и тяжёлые низы. Неужто это ему сегодня под утро сам Хризостом приснился?!
Правильно сделал, что ушёл вовремя. Не приведи Господи умереть средь людского веселья.
Дворецкий Шестунов и постельничий Иван Море, выведя Державного из дворца, усадили в саночки, поехали вместе с ним в Чудов. Иосиф Волоцкий и Митрофан Андрониковский также сопровождали своего подопечного. Великое множество запряжённых возков дожидалось подле Красного крыльца — засидевшись за столом, пирующие захотят вечером поразмяться и уже сегодня почнут лихие масленичные катания. На Ивановской площади заканчивалось великое строительство снежного городка, простёршегося от стен Ивана Лествичника до строений Чудова монастыря.
— Ишь ты! — похвалил Державный. — И очертания знакомы. На какой-то из русских городов похоже. А, Пётр Василия?
— Смоленск, — ответил Шестунов. — Великий князь Василий Иванович велел Смоленск построить. Трое смоляков там распоряжаются, чтобы в точности воспроизвести смоленскую твердыню. Завтра Юрий Иванович и Жилка станут оборону держать, а сам Василий Иванович с меньшими братьями, Семёном и Андрюшей, на приступ пойдут.
— Видать, крепко задумал Васенька Смоленском овладеть, отнять важный град у Литвы, — улыбнулся Иван Васильевич. — Молодец!
— Тут-то Смоленск, — сказал Море, — а в Занеглименье ещё больше наворотили — огромадную снежную Казань строят.
— Что ж, — продолжал улыбаться Державный. — И Казанское царство не раз нам ещё воевать придётся. А погодка хороша для снежных твердынь.
Погода и впрямь была самая подходящая: падал крупный липкий снег, тепла и холода хватало как раз в меру — и не морозит, и не очень тает, не течёт, а только липко. Жаль, что надо уходить из этого славного мира — так было бы здорово засесть завтра в снежном лепном Смоленске и обороняться от нападок сыновей. Или наоборот — их туда засадить, и пусть защищаются, пусть учатся и оборону держать, не всё ведь нам брать города, авось да приведёт Бог свои крепости отстаивать.
Сердце Ивана сжалось от жалости к самому себе, что не быть завтра участником потешных битв, и, вероятно, никогда уже не быть — ни завтра, ни в следующую масленицу, ни в последующую.
— Эй! — воскликнул он с обидцею. — А прокатите-ка меня вокруг Кремля моего, да с ветерочком!
— Это можно! — встрепенувшись, живо откликнулся Шестунов. — Ездовой, дай-ка я! — Он согнал возничего с козел, сам сел на его место, схватил вожжи и погнал двойку лошадей мимо ворот Чудова монастыря в сторону Фроловской башни, которую в последнее время всё чаще стали называть Спасской, как и улицу, лежащую между нею и Ивановской площадью.
Весельем и лихостью заполнилась вмиг душа Ивана Васильевича.
— Что там Иосиф с Митрофаном? — спросил он.
Иван Море оглянулся на возок, в котором ехали оба игумена.
— Остановились, — рассмеялся постельничий. — Чего доброго, решат, что мы тебя, Державный, похитили.
— Дор-р-рогу государю Иоа-анну! — громко крикнул Шестунов, размахивая кнутом. Народ, замешкавшийся у Спасских врат, рассыпался по сторонам. Санки выскочили из Кремля, свернули налево — эх, направо бы надо, посолонью, а не встречью, ну да ладно уж, едем! — и понеслись вдоль краснокирпичной стены, построенной фрязином Петром-Антоном, вдоль заваленного снегом и разным хламом рва, стали приближаться к страшному месту, на котором месяц тому назад были сожжены еретики Волк Курицын, Максимов и Коноплев. Нелепая мысль, что там ещё догорают головни и обугленные трупы, мелькнула в сознании Ивана, но он тотчас же увидел, что пепелище давным-давно уже убрано, а на его месте заложено поприще для деревянной церкви Первомученика Стефана на Пожаре. Сам же Иван и повелел возвести сей храмик и в нём молиться непрестанно о душах еретиков и скором разорении и искоренении восстания всяческих ересей. Ему стало покойно, что его приказ так быстро исполняется.