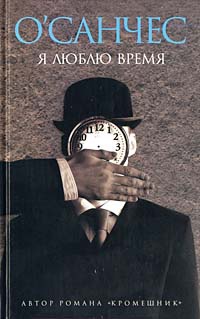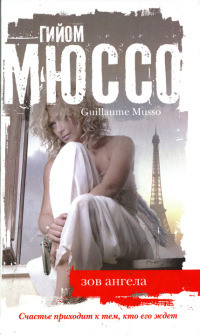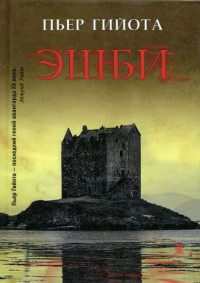– А вы никогда не понимаете!
– Потому что не объясняете. Вот ты можешь сказать, чего хочешь?
Я всхлипнула. И решилась:
– Любви. И чтобы меня любили… – спрятала лицо в подушку, чтобы не было видно, как я краснею.
– Хочешь – значит, будет! – он вытащил меня на свет.
– Это все, что ты можешь сказать?
– А что я должен?
– Ничего! – Я потянулась за халатом.
– Вот так, да? Уходишь?
– А как ты хотел?
Его рука, быстрое движение, я лечу назад, обратно в натопленную нашим теплом постель.
– А я вот так бы хотел… – он перевернул меня на живот, я почувствовала, как надвигается, захватывает… но собралась с последним усилием.
– Нет! Ничего тебе не будет, пока не скажешь.
– Ну что тебе в словах? Ну трудно мне говорить, отвык… Может, не умел никогда. Господи, вот женщины! Мне хорошо, я здесь, я с тобой, я хочу… Ну что еще сказать?!
Он никогда, ни разу за это время не признавался мне. Не сказал того, что я так хотела услышать…
– Черт! Алена, ну не требуй того, чего я не могу, не выворачивай меня наизнанку! Я вон на Настьке даже жениться обещал, и что? Только опозорил девушку… Ты же знаешь, – он усмехнулся.
– Даже жениться! Даже! Посмотрите на него!
Ужасные мужики, они вытеснили нас из большого мира, загнали в гламурное гетто, поместили по периметру витрины с бриллиантами, на которые теперь мы должны облизываться, как колхозные телки на каменную соль. И вызывают по одной на утреннюю дойку. Эта? Нет, старовата! А тебе сколько? Восемнадцать? Подойди, покажись! А, ты про любовь?! На фиг отсюда, следующая!
Я встала, нашарила тапочки и пошла к окну.
– Эх, черт! – услышала я его босые шлепки по полу. – Ну ладно, ладно, права. А я подлец.
– Это не девки, это вы собой торгуете! Вас надо женить не в церкви, а в депозитарии банка!
Он засмеялся. Задрожали губы, затрепетали на моей шее.
– Точно, надо новую услугу организовать, с РПЦ договоримся. Ну, хватит, хватит шипеть.
Но я была горячая, огненная. И жглась!
– Да, и корректировки внести в процедуру! Спрашивать, любите ли вы эту женщину так же, как деньги?
– Почему так же? Любите ли вы эту женщину больше, чем деньги?
– Ну и? – Я повернулась и посмотрела ему в глаза. – Ну, говори!
– А разве кто-то на это может рассчитывать? – он сыпанул на меня искрами, поджег…
– Какой же ты…
Договорить я не смогла. Губы устали произносить слова, и слова устали. Их не было больше.
В мире обесцененных деньгами слов верить можно было только движению. Одному на двоих, на два такта… Он это сказал, или я это услышала, но мы действовали, подчиненные простому ритму двух слогов. Я различала их в мягком качании колыбели, по траектории, резко идущей вверх и плавно скользящей вниз. На два слога, на два сердечных такта… Слова запутывались в волосах, задыхались в подушках, собирались в горячий ком простыней, бежали мурашками по коже, по занавескам, трепетавшим под холодноватым дуновением ветра, дрожали в прозрачном паутинистом воздухе, пульсировали на его виске, слегка затронутом изморозью уже седеющего августа.
Откуда-то сбоку, с другого конца света, до которого нет сил добраться, доносилась мелодия, назойливая, требовательная.
– Не… подходи…
– Вдруг… с папой…
– Аленушка, дочка, ты уже проснулась? Ты теперь рано встаешь, я знаю!
– Ма…ма… случилось… что?..
– Ничего, доченька, просто хотела сказать, что я тебя люблю!
– И я… – шепнула я, касаясь губами его плеча, мимо динамика телефона.
– Алена, не слышу, что?!
Он отшвырнул трубку.
– Если я… смогу сказать… тебе это… она перестанет… звонить по утрам?