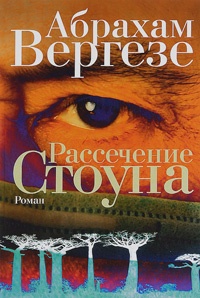По Муромской дорожке стояли три сосны… И притихли все, притаились. Потухли далекие и близкие звуки.
Екнуло сердце, заныло, загорячело… Не раз слышалась эта песня, а все не так тревожила душу, поднимала дрожь в теле. У Мани голосок тонкий до надрыва, хрустальный, Анюткин – что трепет ключевой водицы, а у Лизы – чистый, густой, с грудным наплывом. Понесли эти голоса в небывалые дали трепетные мысли, прошибли до сострадания, до затаенных слез. По особому, с иных понятий воспринималось происходившее, плелись образы, делались выводы, и все как бы само собой, непроизвольно, отрешенно. Еще не твердо, туманно понимал я, что с этих вот проводов Федюхи Суслякова в армию, на серьезную службу, для многих из нас открывается иная дорога в жизнь: навсегда, безвозвратно уйдет юность, а с нею и те радости, и те шалости, которые уже никогда не кинут в безрассудство, в беспечность и с которыми вряд ли могут сравняться ощущения взрослого человека. Вот и Федюху Суслика – прозвищем больше от фамилии, чем по характеру, в моряки забреют. Ушел в ФЗУ Мишаня Кособоков, на подходе в армию и лучший друг Паша Марфин и другие полетят в разные стороны, и не многие вернутся в родную деревню, и отчасти прав был Хрипатый, когда пекся о том, что со временем некому будет работать в хозяйстве. Но такова жизнь: не мы, а она разводит судьбы…
Застолье было шумное: чуть ли не полдеревни молодежи пришло на вечеринку к гармонисту. Было и хмельное, но никто не набирался до сумасбродства: пели, плясали, а потом вывалили на улицу, в хмельную ночь, на траву-мураву. Ярились в пляске вольготно, до упаду.
Все ярче светились синие, как вечернее небо ранней весной, глаза Мани Огарковой, когда она порхала вокруг меня в танце, но не дрожало сердце от этого сияния, не бил озноб при взгляде на ее красивое лицо, крепкую фигуру. Мысли сразу же отметали любой наплыв потаенных чувств, туманно рисуя другие глаза, распахнутые до небывалых размеров.
После, устав и от плясок, и от разговоров, оставшиеся самые близкие друзья Федюхи расселись на скамейках, вынесенных из избы. Тут-то и запели три подружки, и скорее по немой подсказке Анютки Сумченко – с ней в последнее время коротал ночи Федюха и с ним предстояло расставаться девушке не «до будущей весны», а на долгих четыре года, за которыми будет столько жизненных событий, что не пережить их, ни закусив губу, ни держа себя в шорах, и расставание это может развести их навсегда…
Грустно стало от песни, тревожных мыслей, и я поднялся, хотя Маня и удерживала мой рукав. Но ни слова не сказал я ей, лишь решительно отстранился.
Крепко стиснул меня Федюха на прощанье, почувствовалось, как он сглотнул что-то: слюну ли, слезы ли, и мне сдавило горло спазмой – увидимся ли и когда?
Помахав рукой оставшимся парам, что, знамо дело, разбредутся к своим домам, к заветным скамейкам, я ходко пошел к Агапкиной роще, спрямляя путь до своей улицы, расслабленным, грустным. Что-то тяготило меня: то ли воспоминания, то ли какое-то предчувствие. Мысли не строились, чувства не определялись. В такой несобранности и нырнул я в тень редких вековых берез окраины рощи. Скорее интуитивно, чем беглым взглядом, засек я темную фигуру человека впереди себя и как бы очнулся от полубредового состояния. А когда снова взглянул вперед трезво, внимательно, их уже было четверо, и сразу екнулось: по мою душу. Но рвануть в бега было выше сил, выше сознания, чувства самосохранения, и я, как по инерции шел навстречу тем, что ждали. Ни палки, ни какого-либо увесистого предмета под руками не было, да и не могло быть – привык я надеяться лишь на свои возможности. Сразу понял, что это те, из Иконникова, но почему их уже четверо?..
На второй день, после того, как я поквитался с подонком в райцентре, приезжал следователь, вызывал меня в сельсовет, других расспрашивал, но я отрицал свою причастность к драке.
Следователь: