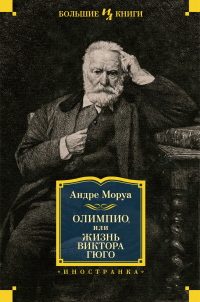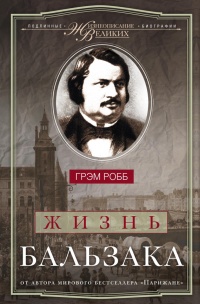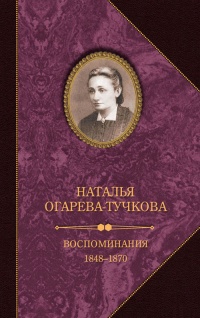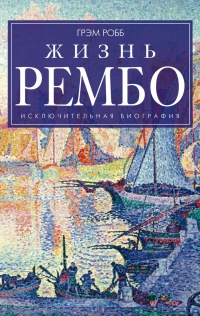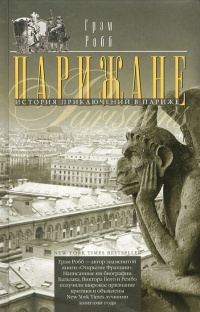Когда я думаю обо всех своих врагах,Мне кажется, что в чем-то я все же должен ошибаться,Но я не знаю как… [конец фрагмента. –
Г. Р.]{1383}
Возможно, Гюго просто почувствовал, что сомнение – плохая тема для стихов и плохой пример для читателей. «Я оставляю дверь моего разума открытой, – написал он, – но мое творчество остается личным».
То, что теперь кажется монументальным фасадом творчества Гюго, – во многом результат труда, проделанного в тот период. Он разделил свои рукописи на территории, дал им всепоглощающие названия, которые редакторы позже присвоят разным сборникам: «Четыре ветра духа» (Les Quatre Vents de l’Esprit), «Все струны лиры» (Toute la Lyre), «Груда камней» (Tas de Pierres), «Океан» (Océan). В 1875 и 1876 годах вышли сборники его выступлений за последние тридцать четыре года, в основном без изменений, в трех томах «поступков и речей». Название Actes et Paroles («Поступки и речи») откровенно напоминает Actes des Apôtres («Деяния апостолов»). Все сооружение высилось как пирамида вокруг многолетней ссылки – «До изгнания» (Avant l’Exil), «Во время изгнания» (Pendant l’Exil), «После изгнания» (Après l’Exil) – и скреплялось тремя гигантскими предисловиями, которые начинались с воспоминаний о доме в переулке Фельянтинок, о саде, населенном полузабытыми духами его отца и Лагори.
Последнее расположение Полного собрания сочинений Гюго в подобие своего рода многостраничных эпитафий способно ввести в заблуждение. Он признавался, пусть даже самому себе, что не имеет ни малейшего понятия о том, каким будет последнее значение его труда. Желание опубликовать все, даже «стружки», намекает на то, что ему хотелось разрушить величественные сооружения, достойные фараона. Процесс открытия творчества Гюго в идеале должен вылиться в наблюдение за тем, как эти огромные сооружения крошатся, распадаются на составные части. Если бы позволяла издательская практика, некоторые тома, которые ждут внимания в библиотеке, можно было бы с пользой заменить картонными коробками, заполненными разрозненными листами бумаги и лишенными указателя.
За фасадом Полного собрания его сочинений и декоративным домом на улице Клиши кроется счастливое доказательство того, что Гюго, постаревший Гаврош, наслаждался жизнью. Свои опубликованные произведения он считал волшебным детским манежем, в котором любые озорные выходки превращались в приятное зрелище.
Лучшие примеры его озорства подпадают под почтенный заголовок «антиклерикализма» – или, может быть, лучше назвать его «священной поркой»? Церковь сражалась с республиканцами по жизненно важному вопросу о начальном образовании. Детские головы стали огромным полем сражения во французской политике. Именно тогда вольтерьянские тенденции Гюго достигли своего пика. Первородный грех он считал мошенничеством на доверии, оклеветал своего первого учителя, Ларивьера, уверяя, что корень всех его последующих «ошибок» заключается в религиозном образовании, которое он получил в руках у «священника». Свой идеал рая он представлял как «сад с широко распахнутыми воротами» и «красивым, таинственным туалетом» для указов католической церкви{1384}.