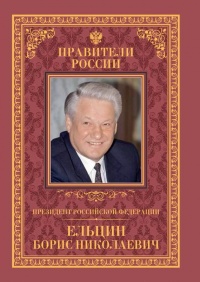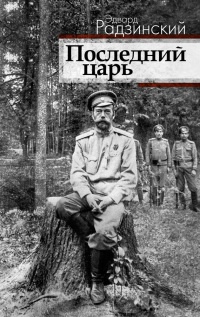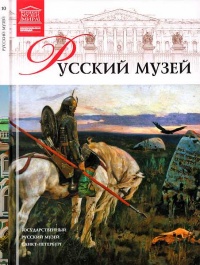– Этот?
Не у кого-то, а вообще спросил, упершись глазами в пространство.
– Этот! Этот! – подсказали ему охотно.
Время для визита было не случайно выбрано под вечер, когда все, и старшие, и младшие, находились после ужина в спальне.
– Не ходит? – поинтересовался директор.
Меня он в упор не замечал.
Разноголосый хор тут же отвечал, что я и в самом деле не хожу, потому что ноги в болячках, а болячки – во какие!
Последнее было произнесено не без восторга и даже не без некоторой гордости.
– Отказывается, что ли, ходить? – переспросил директор, скользя глазами по стенам, по потолку, по соседским койкам.
Я промолчал, поняв так, что спрашивали не меня. Охотников говорить за меня было и так много.
– Отказывается! Он от всего отказывается! – закричали вокруг и начали перечислять, от чего я успел отказаться, но директор перебил, не дослушав:
– А вот мы сейчас поглядим, ходит он или не ходит… А если разучился ходить, так мы его подучим… – И тут же кивнул Жене, который до поры молча стоял у входа, загородив медвежьей фигурой дверной проем. – Как ты считаешь, Женечка, мы научим его ходить?
Женя посмотрел на меня издалека по-особенному и, как мне показалось, жалостливо, был он невероятный добряк и никого по своей воле не обижал. Ни, боже упаси, даже кошку или собаку, не говоря уж о нашей детдомовской братии.
Впрочем, у нас, как в каждом таком гадюшнике, в первую очередь обижали сильных. Но таких сильных, что умеют драться и постоять за себя. Женя хоть и был могуч, но при этом на диво беспомощен и оттого сходил на великовозрастного дурачка: он даже школу не посещал, а занимался хозяйственными делами. Целыми днями он торчал на конюшне, запрягал, распрягал лошадь, возил продукты и был тих и безотказен, как и его послушная лошадка.
Но я-то с ним успел пообщаться раз-другой, когда выезжал в лес за дровами, и я точно знал, что Женя вовсе не дурачок, а может, он поумней других, он умел устроиться по-своему в этой жизни, и еще он умел помалкивать и улыбаться.
Женя нерешительно, боком придвинулся ко мне, но при этом все время оглядывался на директора – наверное, ему заранее успели втолковать, что и как он должен со мной делать.
Я же сидел как посторонний, хоть и на спектакле, который устроили в мою честь и даже сделали поневоле главным героем. Не помню, трусил ли я тогда. Но я сразу почувствовал, как забарабанило в ушах сердце, а в животе возникла тоскливая пустота, которая появлялась в опасные для жизни минуты.
За спиной громко выкрикнули:
– Башмаков и не таких обламывал!
Я вздрогнул и оглянулся: окружив мою койку, вся детдомовская братия, слившись в одно лицо, смотрела на меня и ждала, чем закончится этот безрассудный поединок.
А может, она уже знала, в отличие от меня, чем он закончится, и только ожидала этого уже предрешенного финала?
Но тут кто-то возразил:
– А я говорю, не пойдет! Как же он пойдет, если он не может идти?
– Значит, поедет, – было произнесено не без насмешки.
– На кладбище, что ли?
– А Женя куда хошь свезет… И на кладбище, если надо, свезет… Зуб на отрыв, свезет, с кем спорим?
Врали они про Женю. Врали.
– Заткнись, цуцик! – прикрикнули из старших. – Не товарищу Башмакову вашу дурость слушать! Он, если надо, и к доктору свезет!
Не знаю, не думаю, что все это, особенно про кладбище, говорилось всерьез. Но доктора, уж точно, упомянули для того, чтобы разжалобить нашего директора, душу его заржавевшую смягчить.
Но что мы знали о его душе?
Я уж точно ничего не знал.
Меня перевели сюда из зырянского интерната вместе с шестилетней сестрой, над которой вели расправу старшие девочки, отбирая у нее еду. Они бы и вовсе ее добили, но в счастливый момент кому-то пришла идея в юргомышском районо перетащить нас сюда, где была организована дошкольная группа. Нас с сестрой и Володьку Полякова с маленьким братишкой.
В первый же день приезда я полез в чужой огород за морковью, не рассчитывая по привычке, что нас здесь накормят, и надо же случиться, что огород этот принадлежал сестре Башмакова, тоже воспитательнице в детдоме.
Меня наказали. Наказали даже дважды, потому что не дали есть и не дали встречаться с сестренкой. А мы не могли не встречаться, мы тем и держались все время, что непрерывно были рядом, и нас никто не смог до сих пор разъединить.
Никто, кроме Башмакова.
Он умел наказывать так, чтобы было не просто плохо. А было очень плохо. А что может быть страшней, чем разлучить близких людей. Башмаков и разлучал, он бил в самое больное место.
С этого началось мое знакомство с товарищем Башмаковым. Как потом я смог убедиться, он был памятлив до мелочей, а тем из нас, кто хоть раз посягнул на его личную собственность, никогда и ничего не прощал.
Был случай, когда курица Башмакова по своей дурости снесла яйцо под детдомовским крыльцом, а Вовка Поляков нашел и сожрал, сырым сшамкал, прямо вместе с кожурой. Эта самая кожура, прилипшая нечаянно к верхней губе, его и выдала. Уж как над ним изгалялся директор: и без хлеба и без воды держал, и в район посылал на предмет проверки психики. Он довел Вовку до заикания, напугав криком во время сна, да и сбагрил в конце концов в челябинскую ремеслуху, хотя тому не исполнилось четырнадцати лет. И метрику Вовкину подделали, прибавив целых два года. С братишкой их, конечно, развели, и, должно быть, навсегда.
Жил Башмаков в соседстве с детдомом. За высоким забором земля, двор, немалое хозяйство. Кроме упомянутых кур, водились у него утки, гуси, даже свиньи. Обслуживал все это добро наш молчаливый, наш безотказный Женя. Но и нам в разные времена приходилось ишачить на Башмакова, убирать двор, вывозить навоз, носить собакам и свиньям корм. Их кормили получше нас.
В семье был культ старшего Башмакова: он царствовал по ту и по эту сторону забора.
Когда он отчитывал за какие-то провинности своих домашних, а виноваты у него были все и всегда, мы из-за забора тоже слышали его сильный, рубящий, бьющий как колуном по голове голос, и даже самые развязные среди нас становились смирней и надолго затихали. Не боялся его лишь младший сынок Вовка, по возрасту он был мне ровня – десять лет. Но он вообще мог никого не бояться, имея такого всесильного папу. С нами он не водился и не играл, а лишь показывал язык, когда мы заглядывали через забор, да еще плевал в нашу сторону.
Наверное, то, что исходило от старшего Башмакова, озвучивалось по малости Вовкой. Отношение отца и сына к нам было одинаково презрительным.
Любимым же занятием Вовки было маршировать вокруг дома и громко читать такие стихи:
Товарищ Башмаков Уверен и толков, Веди меня вперед, Товарищ Башмаков! Эти слова, наверное, он слышал тоже от старшего Башмакова у себя в доме, а может, от его сослуживцев еще в Москве. Но из этого следует, что «товарищ Башмаков» в прежней, довоенной своей жизни был какой-нибудь шишкой, а здесь, в Сибири, за спинами детей, временно спасался от фронта, сберегая для светлого будущего свою драгоценную жизнь.