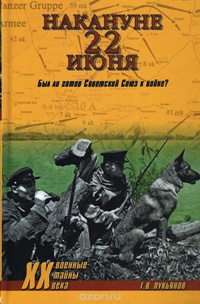Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 101
По сравнению с теми, где я был, например в лагере № 326, режим здесь был довольно щадящий. После построения – скудный завтрак: эрзац-кофе, пайка хлеба 300 граммов, кусочек кровяной колбасы. После завтрака работа.
Нёс я какую-то доску и, проходя мимо маленького барака, услышал стук в окно. Оглянулся: из окна на меня глядел человек. Он поманил пальцем и указал на дверь. Я открыл её, вошёл и увидел невысокого, толстого, с оплывшим красным лицом немецкого офицера лет 50. Хриплым голосом он спросил: «Hast du Pfeife?» («У тебя есть трубка?») Я ответил – нет. Он выругался, но злости я не услышал. Он спросил, из какого я барака, и, дав мне пачку табаку и курительной бумаги, велел раздать моим коллегам.
В тот день я накурился вдоволь, а вечером услышал непонятное. Ребята из восемнадцатого барака, в который меня поместили, рассказали, что этот офицер – комендант лагеря, обер-лейтенант, прусский помещик. Он прибыл недавно и сразу установил небывалые порядки: запретил рукоприкладство, а решения о наказаниях принимал лично. Наказывал мало, часто беседовал с пленными в бараках, правда, сам не говорил, а только задавал вопросы и слушал. Мог вызвать к себе военнопленного в барак, усадить его за стол и молча наблюдать, как тот ест. Табак раздавал часто. По наблюдениям военнопленных, солдаты охраны любили его за справедливость, а офицеры и часть унтер-офицеров недолюбливали. Обер-лейтенант был всегда под хмельком.
Ещё одна встреча с этим странным пруссаком: питания в лагере было недостаточно, и пленные, как всегда, изощрялись – воровали на стороне и в лагере, только не у своих и не у немцев, а на кухне или на складах. Наиболее доступным для русских был склад картошки, располагавшийся в буртах около кухни. Кухня помещалась в большом бараке и разделялась на два отделения: для военнопленных и для солдат охраны. На кухне работали русские повара, на немецкой кухне – немецкие. Общим начальником был шеф-повар. Он слегка владел русским языком, но умел виртуозно материться. Ругался отменно, как старый боцман, и сильно смешил нас.
Картошку не просто воровали, но и проигрывали в «очко». Банк начинался с единиц, потом переходил на десятки, сотни и миллионы картошин, затем их делили на миллион, и частное от деления составляло предмет воровства.
Проиграв 64 миллиона картошин, я взял ведро и пошёл к кухне (это было в воскресенье после завтрака, а по воскресеньям мы не работали). Залез в бурт, набрал картошки, на выходе присыпал её углем, чтобы встречные немцы и полицаи видели, что я несу уголь, и вышел из бурта. На моё несчастье, в дверях кухни появился шеф-повар. «Иван, ко мне!» Я подошёл. «Что несёшь»? Я ответил – уголь. Повар, конечно, знал, что русские таскают картошку, и смотрел на это сквозь пальцы, но в тот день у него было плохое настроение. Он нагнулся, разворошил прессованный уголь и, достав картошину, спросил: «Это тоже уголь?» Я молчал. Он заорал, что все русские – воры и свиньи, и он на меня пожалуется. На крик выбежали русские и немецкие повара и, как из-под земли, явился дежурный по охране унтер-офицер. Узнав, в чём дело, спросил, из какого я барака, велел высыпать картошку и следовать за ним. Я видел в окнах лица ребят и думал: за что они сейчас больше переживают: за то, что остались без картошки, или сочувствуют, ведь мне грозило суровое наказание. И тут как раз напротив нашего барака, из-за поворота, показался обер-лейтенант. Он был одет с иголочки и направлялся в город. Сердце у меня упало. Унтер-офицер подбежал к нему и, рапортуя, указывал в мою сторону пальцем. Я стоял от них метрах в восьми. Выслушав рапорт, обер-лейтенант подозвал меня и, спросив, из какого я барака, велел, чтобы сегодня вместе с Николаем (он знал переводчиков во всех бараках) в 19.00 явился к нему.
С пустым ведром я под насмешки и шутки вошёл в барак. А ровно в 19.00 мы с Николаем постучали в дверь барака обер-лейтенанта. Лежа на диване, он начал разговор:
– Николай, спроси его, зачем он воровал картошку.
– Я голоден. Поэтому ворую, – ответил я.
– Николай, спроси его, он что, съедает целое ведро картошки?
– Я делюсь картошкой с камарадами, они ведь тоже голодают.
– Николай, спроси его, знает ли он, что за воровство в Германии судят и отправляют на каторгу?
– Нет, не знаю, – ответил я.
– Николай, передай ему, что на первый раз я его прощаю, а в следующий раз прикажу подвесить его пайку хлеба к флагштоку (при этом он указал пальцем на видневшийся в окне флагшток у входа в лагерь), и он будет у меня целый день прыгать за ней. Идите!
Так закончилась моя вторая встреча с этим странным человеком.
Ещё один эпизод для характеристики обер-лейтенанта. В один из воскресных дождливых дней мы в бараке «дулись» в подкидного дурака на интерес: на щелчки, носики, картошку. И вдруг в окно увидели, как из уборной вышел обер-лейтенант. Уборные в лагере были в одном месте и все с надписями – общая уборная на много очков «Только для русских военнопленных», общая уборная – «Только для германских солдат», маленькая уборная – «Только для германских офицеров» и отдельная уборная на одно очко под замком без надписи. Это и была уборная обер-лейтенанта. Он вышел, а дверь не запер.
«Сыграем, кому оправиться в уборной обера?» – предложил кто-то. Решили сыграть. Проиграл Лёшка-хохол, здоровенный флегматичный детина. Встал и зашёл в уборную, а ремень вывесил наружу. Такой эксперимент и по сути, и по форме был грубым нарушением всех норм поведения военнопленных. Виновника в те времени могли даже казнить.
Мы наблюдаем в окно и видим, как к уборной спешит обер-лейтенант. Увидев ремень, он остановился как вкопанный, потом дернул за ручку, дверь не открылась, и обер-лейтенант дунул в свисток. Тут же появился дежурный унтер и, выслушав коменданта, начал дергать дверь. Ремень убрался, дверь отворилась, и вышел Лёшка. Мы не видели лиц немцев, но за судьбу Лёшки я очень испугался, да и мои коллеги тоже. Разговора мы не слышали, но из поля нашего зрения не ускользнуло, что к бараку вместе с Лёшкой шёл унтер-офицер. Что-то будет? Унтер объявил, что за проступок одного будет отвечать весь барак – а это человек сорок.
Два часа муштры. Под командой двух солдат мы бегали, ложились, вставали. Всё это под дождём, а «Ложись!» солдаты командовали тогда, когда мы пробегали по лужам: «Ложись!» (в лужу), «Вставай!», «Марш-марш!», «Ложись!», «Вставай!», «Марш-марш!» под жуткую ругань. Играли-то четверо, а гоняли всех. Разозлённые 36 человек нам бы наверняка всыпали, но, на наше счастье, среди провинившихся был переводчик Николай. А его побаивались.
На этом беда не закончилась. Минут через пять появился унтер и приказал всю одежду привести в порядок. Мыли, стирали, чистили, сушили допоздна, а в 6.00 подъем. Так прошёл в нашем бараке воскресный июньский день.
Привожу этот случай в доказательство благородства обер-лейтенанта. Он мог запросто расстрелять Лёшку на месте. А он наказал по статье за недисциплинированность.
За своё отношение к военнопленным он и пострадал. Как-то раз в июне или июле после построения на работу нас не повели, а оставили в строю. Стояли часа полтора и вдруг видим: к нам строем подходит охрана, даже часовые были сняты с вышек. Нас выстроили буквой «П», а в основании встал весь конвой при оружии. Мы недоумевали. Вдруг в центре появился обер-лейтенант в парадной форме и при всех регалиях. Повернувшись лицом к немецкой охране, он что-то стал говорить, а затем начал обходить солдатский строй и пожимать руки всем солдатам, унтерам и своему заместителю лейтенанту. Повернувшись к нам, сказал: «До свидания, русские, желаю вам быстрее вернуться домой, я уезжаю на русский фронт».
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 101