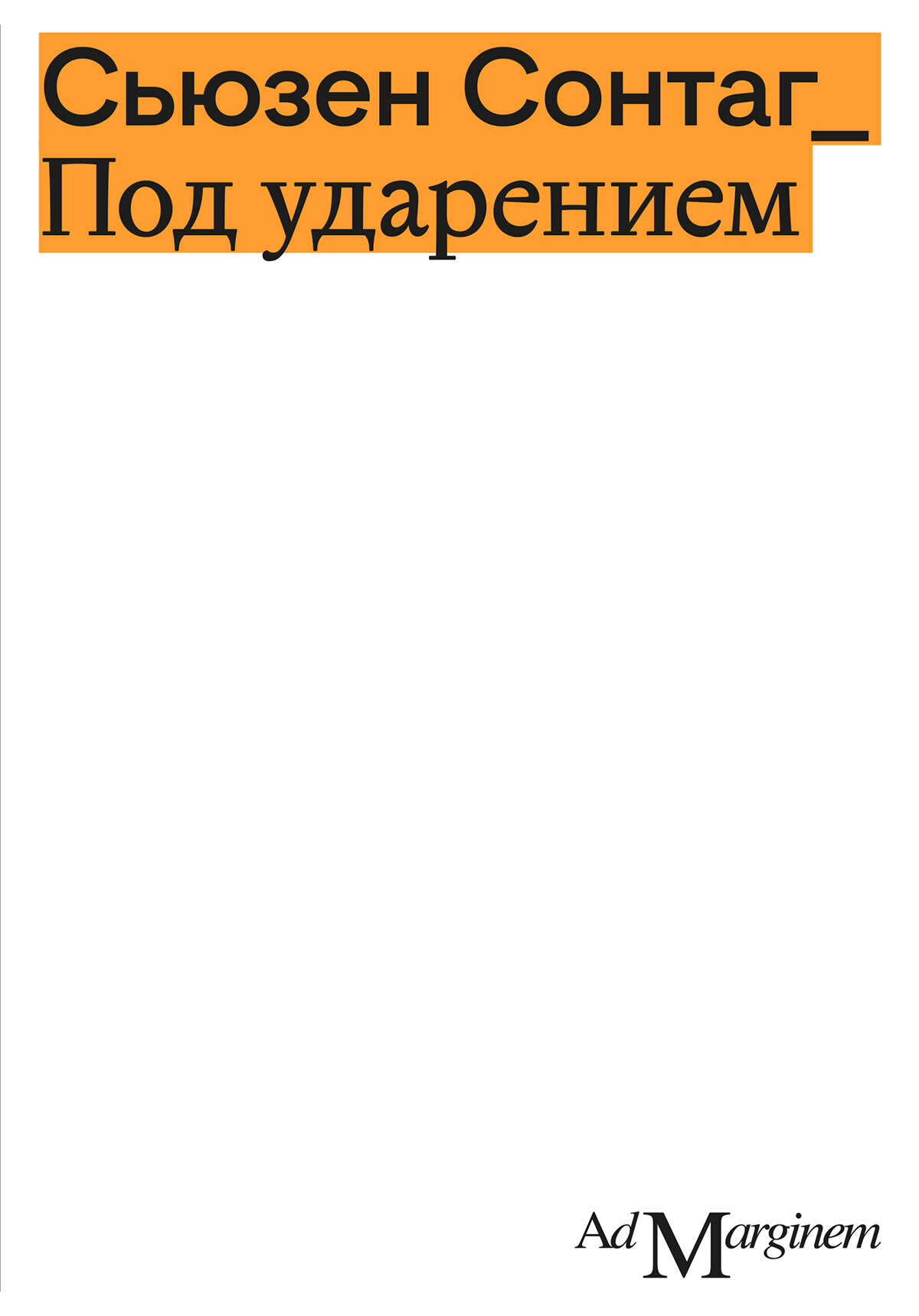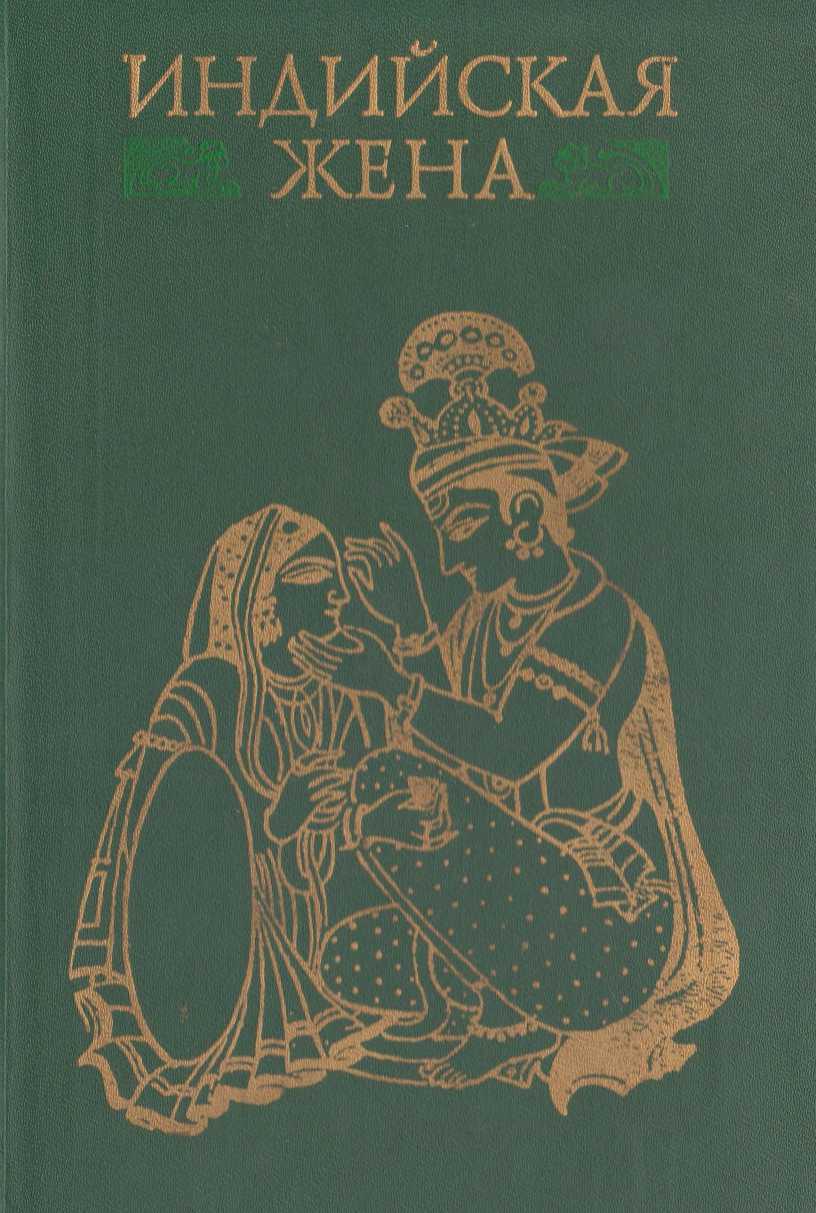революционной партией народнического движения. Отец Сержа, ученый Лев Кибальчич, в то время офицер императорской гвардии, состоял в боевой организации, близкой по идеологии народникам, и едва избежал пули, когда организацию разгромили. В Женеве, своем первом убежище, он познакомился со студенткой радикальных взглядов из Санкт-Петербурга, потомственной польской дворянкой, женился на ней, и остаток десятилетия они «в поисках хлеба насущного и хороших библиотек кочевали между Лондоном, Парижем, Швейцарией и Бельгией» — словами их сына, политического изгнанника во втором колене.
Культура ссыльных социалистов, в которой рос Серж, дышала революцией, наивысшей надеждой, наивысшей борьбой. «Разговоры о великих людях сводились к обсуждению процессов, казней, побегов, сибирских дорог, идей, без конца подвергаемых сомнению, и последних книг, им посвященных…» Революция была трагической драмой современности. «В наших случайных пристанищах на стенах всегда висели портреты тех повешенных». (Наверняка среди них был Николай Кибальчич, дальний родственник его отца — один из пяти осужденных за подготовку убийства Александра II.)
Революция значила опасность, риск смерти, большую вероятность ареста. Революция значила тяготы, лишения, голод. «Кажется, если бы меня, двенадцатилетнего, спросили, что такое жизнь (и я сам часто задавал себе этот вопрос), я бы ответил: не знаю, но, на мой взгляд, это означает: мыслить, бороться, голодать».
Так и было. Читая мемуары Сержа, переносишься в эпоху, которая кажется очень далекой оттого, с какой страстью люди отдавались самопознанию и интеллектуальному поиску, жертвовали собой и самозабвенно надеялись; эпоху, когда для двенадцатилетнего ребенка образованных родителей было в порядке вещей спрашивать себя: «Что такое жизнь?» Для того времени Сержа нельзя назвать одаренным не по годам. Тогда в семьях поколениями формировалась культура жадного чтения и идеализма, особенно в славянских странах; так росли дети русской литературы. Из этих адептов науки и совершенствования человеческой натуры вышло много солдат радикальных движений первой трети ХХ века; судьба уготовила им роль пешек в чужих руках, разочарование, предательство и, если они жили в Советском Союзе, насильственную смерть. В своих мемуарах Серж вспоминает, как его друг Пильняк сказал ему в 1933 году: «Есть ли хоть один мыслящий взрослый человек в этой стране, который не боялся бы расстрела…»
В конце 1920-х годов разрыв между реальностью и пропагандой стал огромен. Из-за настроений в обществе даже бесстрашный румынский писатель Панаит Истрати (1884–1935) опасался отдавать в печать К другому огню: Исповедь проигравшего, откровенные очерки о шестнадцати месяцах, проведенных в СССР в 1926–1927 годах, которые он написал по заказу своего влиятельного французского покровителя Ромена Роллана, а когда книга таки вышла в свет, от него отвернулись все его бывшие друзья и сторонники в литературных кругах. По той же причине Андре Мальро, тогда — редактор издательства Gallimard, не принял к публикации обличительную биографию Сталина русского писателя Бориса Суварина (1895–1984, настоящее имя Борис Лифшиц) как враждебную идеологии Испанской Республики. (Истрати и Суварин, близкие друзья Сержа, сформировали вместе с ним в своем роде триумвират рожденных за рубежом писателей-франкофонов, которые с конца 1920-х годов взяли на себя неблагодарный труд по левой — а потому преждевременной — критике происходящего в СССР.) Для многих живущих в капиталистическом мире эпохи Великой депрессии казалось невозможным не сочувствовать борьбе этой необъятной отсталой страны за выживание и создание — какой по крайней мере была ее начальная цель, — нового общества, построенного на принципах экономической и социальной справедливости. Андре Жид едва ли сильно преувеличивал, когда писал в своем дневнике в апреле 1932 года, что готов умереть за Советский Союз:
В чудовищном разладе современного мира план России мне видится спасением. Всё говорит мне только об этом! Жалкие доводы ее противников не только не убеждают меня — они приводят меня в ярость. <…> Если бы потребовалась моя жизнь, чтобы обеспечить успех СССР, я отдал бы ее немедленно, слившись с множеством тех, кто жертвовал и еще пожертвует своей жизнью.
Что же в действительности происходило в СССР в 1932 году: так начинается Ленинградская больница, рассказ Сержа, который он написал в Мехико в 1946 году, предвосхищая Солженицына:
В 1932 году я жил в Ленинграде. <…> Уже наступили черные времена перебоев с продуктами в городе, голодухи в деревнях, террора, подозрительных убийств, преследований специалистов, верующих, крестьян, оппозиционеров. Я принадлежал к последней категории преследуемых. А значит, ночью, сквозь самый глубокий сон слух мой старался различить среди шумов на лестнице поступь близкого ареста…[8]
В октябре 1932 года он обратился в ЦИК партии за разрешением на выезд из страны; ему отказали. В марте 1933 года Сержа вновь арестовали и после срока на Лубянке отправили в ссылку в Оренбург, угрюмый город на границе России и Казахстана. Положение Сержа немедленно вызвало протесты в Париже. В июне 1935 года на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже под председательством Жида и Мальро, высшем достижении Коминтерна по мобилизации независимых прогрессивных писателей в поддержку Советского Союза, — в то же самое время, когда начиналась сталинская программа по истреблению оставшихся в живых «старых большевиков», — к «делу Виктора Сержа» обратилось несколько делегатов. В следующем году Жид накануне своего отъезда в триумфальное турне по Советскому Союзу в сопровождении группы писателей, события большой важности для советской пропаганды, обратился к советскому послу в Париже с просьбой освободить Сержа. Роллан во время ответного визита в Россию говорил о деле лично со Сталиным.
В апреле 1936 года Сержа с сыном-подростком перевезли из Оренбурга в Москву, лишили советского гражданства и вместе с ослабшей психически женой и малолетней дочерью посадили на поезд до Варшавы. Это единственный случай за всю эпоху Большого террора, когда писателя освободили — то есть выслали из СССР — в результате внешнего вмешательства. Конечно, большую роль сыграл тот факт, что Серж родился в Бельгии и считался иностранцем.
Добравшись до Брюсселя в конце апреля, Серж напечатал во французском журнале Esprit открытое письмо Жиду, поблагодарив того за обращение к властям в попытке вызволить его конфискованные рукописи и упомянув некоторые советские реалии, о которых Жид мог бы и не узнать во время своего турне, — например, об арестах и убийствах писателей и в целом подавлении интеллектуальных свобод. (В начале 1934 года Серж уже пытался связаться с Жидом и отправил ему письмо из Оренбурга, в котором рассуждал об их общем ви´дении свободы в литературе.) Два писателя смогли втайне встретиться после возвращения Жида: в Париже в ноябре 1936 года и в Брюсселе в январе 1937-го. В своих дневниках Серж описывает разительный контраст: Жид — посвященный, признанный мастер, на чьи плечи возложена мантия Великого писателя, и Серж, борец за недостижимые цели, нищенствующий скиталец в опале. (Разумеется, Жид с опаской относился к Сержу, считал, что он попал под дурное влияние и сбился с пути.)
Из французских писателей, с кем Серж имел много общего — нравственную непреклонность, упорство в труде, готовность расстаться