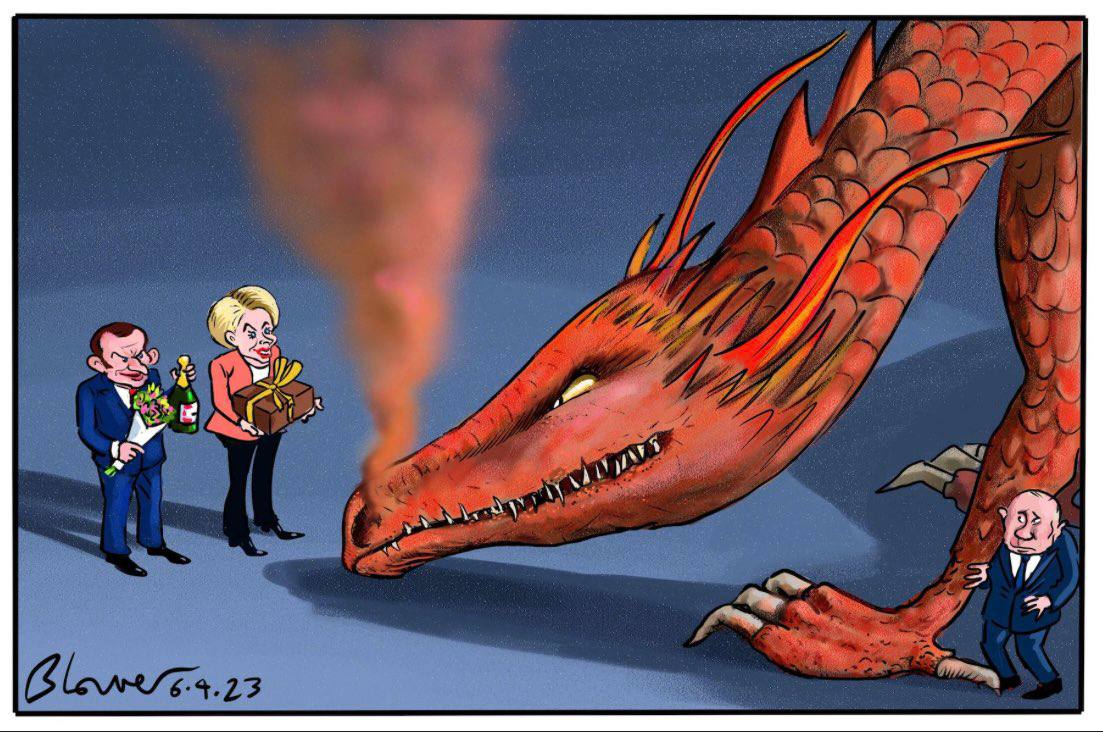портрета удвоена его смысловой выразительностью. При этом живописная корректность Никитина — самого европейского художника России Петровского времени — спасает от того предметного фетишизма, какого так много, например, в портретах Антропова.
Во многих случаях вещи в русской живописи XVIII века обречены на пассивное присутствие — особенно в портрете. Скульптурные бюсты императоров, стоящие за спиной позирующих сановников и демонстрирующие близость царской особе, мантия Мальтийского ордена, брошенная на кресло рядом с позирующим героем, эмблематические знаки, разыгрывающие «предметную аллегорию» (мудрость, справедливость, правосудие), и лишь иногда не столь прозрачная в своем значении лейка на портрете Демидова (1773) работы Дмитрия Левицкого — как знак заботливого просвещения юношества. Обратим внимание на то, что при всей своей демонстративности перечисленные предметы не выявляют своим «поведением» каких-либо личных отношений — ни с художником, ни со своим владельцем — персонажем живописного произведения. Как бы ласково ни трогал Демидов своей холеной рукой сияющую металлическим блеском лейку, она остается «отчужденной» и «равнодушной». Не только Демидов, но и сам Левицкий, несмотря на виртуозное мастерство, которое он вложил в исполнение столь красноречивой детали, не мог бы признать этот предмет своим любимым и избранным. В портрете Сарры Фермор, исполненном Иваном Вишняковым в 1749 году, веер в руке девочки, символизирующий вместе с платьем и позой «дамскую перспективу» юной героини, так же дистанцирован от детских пальцев, его держащих. В этом предметном отчуждении заключена даже своеобразная прелесть живописи XVIII века и таится будущая самоценность вещи, достигшей пока лишь стадии относительной самостоятельности.
Продолжая оценивать предмет в русской живописи XVIII века, имея в виду привычные для наших глаз предметные воплощения в голландской, фламандской или французской живописи XVII-XVIII столетий, отметим еще одно обстоятельство. За предметами, получившими живописную реализацию, не угадывается процесс овеществления, они не дают возможности представить их становление, делание — они являются на свет «в готовом виде». Лишь в редких живописных произведениях того времени встречаем свидетельства человеческой ориентированности предмета и его естественную жизнь — например, в «Крестьянском обеде» (1774) или «Празднестве свадебного сговора» (1777) Михаила Шибанова, где сквозь фламандство (а может быть, благодаря ему) просматривается реальное бытие предметного мира, где в вещах ощущается рукотворство[30].
Демонстративность в истолковании предмета сохраняется и в более позднее время, хотя и приобретает иной характер. В наибольшей мере этот новый характер проявляется в жанровой и исторической картине XIX века. На всем протяжении прошлого столетия вещь в живописи словно вспоминает о своей демонстративной функции. Но время от времени и у разных художников происходит это по-разному. Некоторые традиции XVIII века сохраняет Алексей Венецианов, но одновременно в его отношении к вещам ощущается и новизна позиции. В его творчестве баланс предмета и материи пребывает в стойкой гармонии, которая обретает свою форму в обыденных вещах крестьянского быта и орудиях сельского труда. Эти предметы по-прежнему демонстративны. Брошенные на пол сарая серпы и веники, еще не обутый лапоть, деревянная лопатка в руке крестьянина («Гумно», между 1821 и 1823) — все здесь рассказывает о том, что происходит. Но действие специально замедлено, чтобы больше внимания сосредоточить на вещах. А те немногие жесты крестьян, которые позволяет себе воспроизвести скупой на рассказ и молчаливый Венецианов, прямо с этими вещами связаны. Положенный на помост серп возле кормящей ребенка крестьянки («Лето», середина 1820-х) становится смысловым центром картины, ибо исчерпывающе объясняет происходящее. В предшествующем веке предмет чаще всего дополнял объяснение. Топор на плече мальчика («Захарка», 1823) демонстрирует характер его занятий. Как тут не вспомнить лейку под рукой Демидова! Но насколько непосредственнее становится отношение героя к предмету (хотя человеческое тепло проникает в предмет, преодолевая грубый материал рукавицы) по сравнению с изысканным жестом модели Левицкого. Венециановские вещи «говорят» своим молчанием, тогда как в портрете Демидова предмет довольно громогласен, внешне великолепен, но внутренне нем. У Венецианова же намечается та самоценность вещи, которая открывает путь к натюрморту в творчестве его учеников, что и являет нам счастливый случай в русской истории этого жанра.
Что же касается принципа предметной демонстративности, то другой — куда менее убедительный — ее вариант дают жанровые картины Василия Перова конца 1850-1860-х годов, в частности одно из первых произведений знаменитого «шестидесятника» — «Приезд станового на следствие» (1857). Предназначенные для экзекуции розги, полученное становым в качестве подарка лукошко с куриными яйцами, приготовленный и уже подносимый чиновнику графин с водкой и другие предметы выступают в качестве рассказчиков. Художник, которого в большей степени интересует не психологическое состояние персонажей, не внутренняя жизнь людей и вещей, а ситуация, создавшаяся в результате разворота представленного события, пользуется предметами в своих целях — с прямолинейным простодушием и твердыми намерениями.
В последнем случае я взял один из самых характерных и наглядных примеров. Он в гипертрофированной форме характеризует поглощенность предмета демонстративной задачей. Можно, наверное, согласиться с тем, что ни какое иное произведение живописи XIX века не способно с такой наглядностью продемонстрировать отмеченное мною качество. Но, с другой стороны, нельзя не признать, что на протяжении целого столетия, насыщенного разнообразными, к тому же значительными явлениями живописи, это качество в той или иной мере проявляет себя. Даже столь чуткий к жизни вещей художник, как Павел Федотов, мучительно мечется между «предметным психологизмом» («Анкор, еще анкор», 1850-1851), зримой красотой и совершенством вещи, не препятствующими участию в событии и в «организации» ситуации («Сватовство майора», 1848), и прямолинейной демонстративностью, обеспечивающей наглядность происходящему событию («Завтрак аристократа», 1849-1851).
В более позднее время в картинах передвижников — например, у Константина Савицкого — вещи являются в виде слуг сюжета. Во «Встрече иконы» (1878) священный предмет объясняет не сам себя, а событие, состояние молящихся крестьян, собирает вокруг себя разнохарактерных представителей деревенского мира. В картине Григория Мясоедова «Земство обедает» (1872) почти все предметы служат объяснению главной немудреной идеи: земство не способно преодолеть различия между бедностью и богатством. Даже в «Крестном ходе в Курской губернии» (1880-1883) Ильи Репина икона, хоругви и фонарь, несмотря на то что они мастерски вписаны в пространство, живописно включены в толпу, важны лишь как свидетельства события, ситуации. Пожалуй, лишь Василий Суриков выпадает из этого ряда живописцев второй половины XIX века. Его вещи сосредоточены в себе, но одновременно обращены к миру, к истории, к судьбам героев. Такое совмещение функций создает удивительное чувство «вочеловеченности вещи» и сопричастности ее человеческому бытию.
Я не затрагиваю пока искусства XX века (оно вступит в действие позже) и некоторых мастеров XIX столетия (например, Александра Иванова), которым предназначена в намечаемой мной конструкции иная роль. Речь пока идет о том