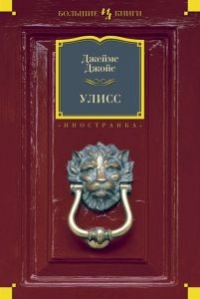как же мне хочется снова двигаться и танцевать! Почему никто не может этого понять?
– Пожалуйста, сядьте, – резко и напряженно произносит доктор Юнг.
– Мой отец говорил вам, как я ненавижу врачей?
Я продолжаю ходить по кабинету, огибая доктора, разглядывая его со всех сторон, под каждым углом. Если великий доктор Юнг может ходить по комнате и рассматривать и изучать меня, словно мертвую бабочку под стеклом микроскопа, почему я не могу сделать то же самое по отношению к нему?
– Да, говорил. Как складываются ваши взаимоотношения с доктором Негели?
– Он взял у меня столько крови… должно быть, во мне больше ничего не осталось. Он говорит, что у меня повышенные лейкоциты – слишком большое содержание белых кровяных телец. И проверяет меня на наличие… – Я не желаю произносить это слово. Ни при докторе Юнге. Ни при ком-либо другом.
– Наличие чего, мисс Джойс? – Голос доктора становится мягче, он откидывается назад в своем кресле, так что его живот выпирает из-под жилета, словно воздушный шарик. – Вы забываете о том, что я могу спросить об этом доктора Негели лично. Это очень просто. – Он чихает и снова вытирает нос.
– Я не собираюсь вам говорить! – Я падаю в кресло, плотно-плотно закутываюсь в пальто и горблюсь. Несомненно, сейчас опять начнутся все эти старые вопросы про меня и баббо и про спальни, в которых мы вместе спали. Но нет. Вместо этого доктор Юнг спрашивает меня, удобно ли мне в частном санатории доктора Брюннера.
– Там все как здесь. – Я обвожу кабинет рукой – белые стены, отделанные панелями красного дерева, рисунки в восточном стиле, изображения мандалы на каминной полке. – Очень буржуазно, – презрительно добавляю я.
– Вам здесь нехорошо? Неприятно?
– Да. Только когда я смотрю в окно… – Я не могу объяснить, как отталкивают меня эта роскошная мягкая мебель, купленная за большие деньги, как пугает толстый бархат портьер и натертый паркет пола – я чувствую себя чужой, незваной гостьей, как все это напоминает мне одну парижскую квартиру, которую мне бы очень хотелось забыть.
– Мисс Джойс… – Доктор Юнг так громко сморкается, что я слышу отвратительное бурление у него в носу. – Вам двадцать семь лет, и вы никогда не жили в отрыве от своей семьи. Даже здесь, когда вы находитесь в санатории с мадам Бейнс, я не могу полностью отделить вас от отца. Несмотря на мои строгие инструкции, он отказывается покидать Швейцарию. – Он делает паузу и тщательно рассматривает содержимое носового платка, будто там может прятаться баббо. – Почему вы никогда не имели собственного жилья?
Я смотрю в окно.
– Раньше я любила представлять себя мисс Стеллой Стейн. Воображала, как она просыпается каждое утро, как надевает свое зеленое бархатное пальто и шляпу с оранжевыми перьями. И никто не диктует ей, что носить и в какое время приходить домой.
– Продолжайте, – говорит доктор, и его бездонные глаза словно удерживают меня в луче света.
– Мои подруги ходили в ночные клубы и заводили любовников. Я же ходила ужинать с родителями. И однажды я спросила баббо, можно ли мне переехать. Сказала, что мама меня ненавидит.
Я закрываю глаза и вызываю в памяти этот день. Я еще слышу, как покашливает и сопит доктор, но уже через несколько секунд та сцена предстает передо мной, как наяву. Кабинет баббо, везде книги, газеты, журналы, книжки комиксов, художественные альбомы, энциклопедии, карты, словари… разбросаны по полу, стоят у стен, едва не падают с полок. Баббо, сгорбившийся за письменным столом. Полная тишина – слышен только скрип его ручки. И я вытягиваю шею и изгибаюсь, готовясь танцевать.
– Баббо?
– Да?
– Я хочу съехать отсюда. Хочу жить в своей квартире. Как мои друзья и подруги. – Я отвела назад плечо, сначала правое, потом левое. – Мне почти двадцать один!
– Я знаю, Лючия. Ты просила нас об этом много раз, и мы всегда отвечали тебе «нет». – Баббо положил ручку, и краем глаза я заметила, что он наблюдает за мной.
– Но почему нет? Я – единственная танцовщица, которая живет с родителями, кроме Киттен. – Я откинулась назад и медленно выгнула спину, пока моя голова не оказалась между коленями.
– Петлями парят они, переплетаясь со светом… соединяясь и сливаясь, смыкая веки и стремясь в парении к свету. Как это звучит?
– Мама меня ненавидит, Джорджо вечно поет в своем хоре, а ты всегда пишешь. – Я уперлась ладонями в пол и почувствовала, как напряглась задняя поверхность бедер. Потом немного развела колени и взглянула на баббо снизу вверх. Он смотрел на меня, склонив голову к плечу, с непроницаемым выражением лица.
– Бойкий, быстрый, ловкий, гладкий, ладный, складный бегун-бегунок… понравится им это, Лючия? Понравится ли такое этим филистимлянам, что посмеиваются надо мной, копируют и уродуют мои работы? – Он вздохнул и вернулся к своим бумагам.
– Я хочу жить своей собственной жизнью. Хочу быть более независимой! – Я разогнулась и встала. Затем запрокинула голову, так что мои глаза видели только потолок, некогда белый, но теперь тускло-бежевый от табачного дыма.
Баббо остановил на мне взгляд своих воспаленных, в розоватых прожилках глаз.
– Как ты по-кошачьи грациозна в этой позе… кис-кис, кисуля, котишка-воришка…
– К тебе это не имеет никакого отношения, баббо. Я буду очень часто к тебе приходить, ты же знаешь, – сказала я, не отрывая глаз от потолка.
– В Ирландии хорошие девочки не живут одни, сами по себе. Они остаются под крылом у мамочки, пока не выйдут замуж. – Ручка снова заскрипела по бумаге.
– При чем здесь вообще Ирландия? Вечно Ирландия! Это Париж! И если в Ирландии так прекрасно, почему вы с мамой сбежали и поженились в Италии, а не в Дублине?
– С меня довольно твоей язвительности. Мне нужно продолжить работу. Сбегай и отправь для меня эти письма. Бери-беги быстрей-шустрей.
Я медленно опустила голову. Приятно было чувствовать гибкость и послушность своих членов, но разговор с баббо привел меня в состояние нешуточного раздражения. Нужно было попросить маму. Она не хочет, чтобы я путалась у нее под ногами. Мои танцы всегда ей мешают и кажутся некрасивыми и не очень приличными. А когда она замечает, как смотрит на меня баббо, то прищуривает глаза, и у нее делается очень неприятное, холодное лицо. Да, мама бы согласилась.
Баббо опять положил ручку и задумчиво взглянул на меня.
– Возможно, если бы кто-то жил с тобой… – Он говорил очень медленно, как будто мысль еще только формировалась в его голове.
– Кто мог бы жить со мной? Ты хочешь сказать, мы могли бы делить квартиру с Киттен