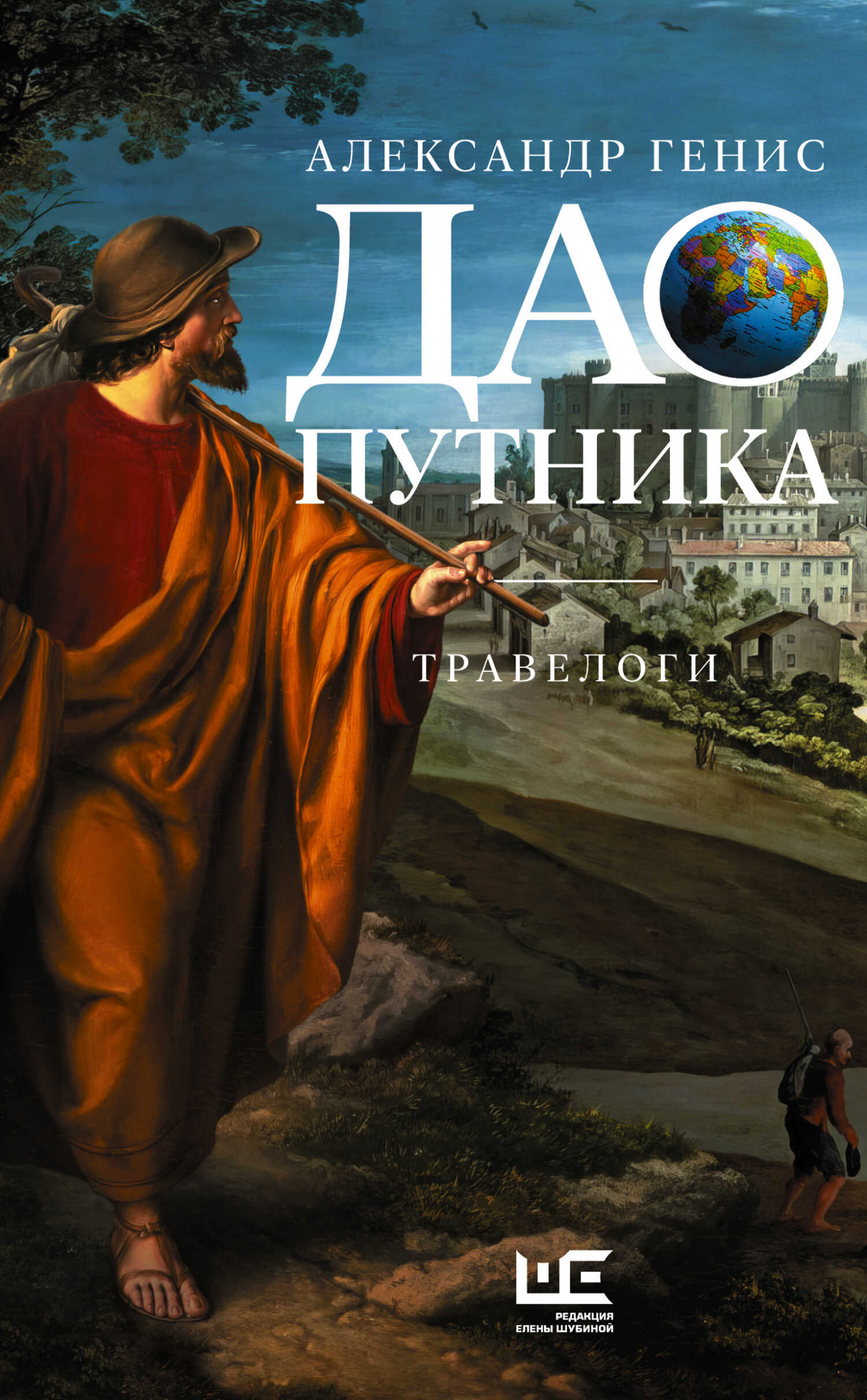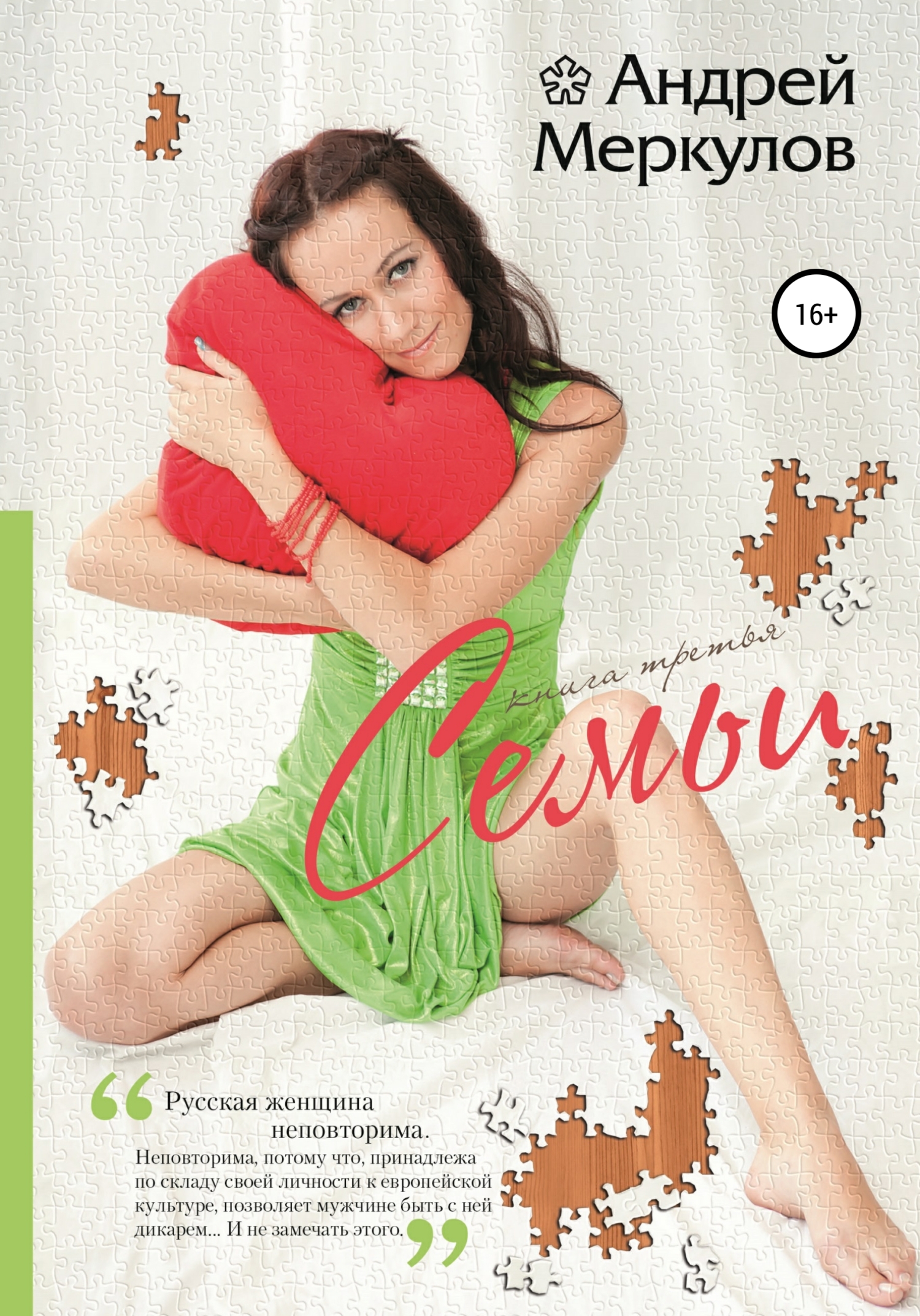делали в отдаленных губерниях — неизвестно; известно только, что они начали службу с десятью рублями и кончили с полумильоном.
Окончив таким образом осторожно свое наживание, выходят они в предостерегательную отставку и ищут покровительства, чтоб не подвергнуться каким-либо неприятным напоминаниям; большею частью женятся они на воспитанницах знатных барынь и заживают припеваючи.
Муж Генриетты исключительно принадлежал этому сословию.
Он родился в Л… от коренного приказного и тринадцати лет был записан писцом в уездном суде. После способности его развились на обширнейшем поприще. Он уехал в Сибирь; там был и стряпчий, и советником, и в командировках, и менял места, и наконец, запутавшись в одном деле, угрожавшем ему неизбежным уголовным судом, свалил всю беду на своего сослуживца, а сам, за болезнию, вышел в отставку. Состояние было нажито.
Он искал связей. Случай сблизил его с княгиней. Мы видели, как он женился.
Человек более деликатный не довольствовался бы холодным обращением жены своей, но Федоренко был так доволен собой, что не обращал внимания на такие мелочи. Знать вскружила ему голову; восхищение его было невыразимо, когда ему случалось сидеть в театре подле генерала или играть в вист с вельможею. Он нарочно поселился подле княгини и каждый вечер, когда недоставало четвертого, имел честь играть с ее сиятельством и всячески старался проигрывать для поддержания ее благосклонности. Генриетта оставалась одна.
С некоторого времени он в особенности сделался чрезвычайно доволен и важен. Он сторговал — разумеется, как водится, на имя жены своей — прекрасное имение в Малороссии, то самое, где отец его, до вступления в приказные, был дворовым человеком. Это имение было всегда целью его желаний, и по торгам оно оставалось уже за ним. День переторжки был назначен. Федоренко наскоро оделся, вышел в переднюю, надел байковый сюртук и начал надевать галоши.
— Тьфу ты, пропасть! — закричал он вдруг. — Что за дрянь! Калоши проколотые, испорченные… Чьи это калоши? Был здесь кто-нибудь?
— Никак нет, — отвечал человек.
Федоренко смутился. «Калоши мои, кажется: на ноге сидят хорошо. Да кто же их испортил? Неприятно! Я гадости этакой не надену. Пойду без калош — ноги замочу; можно простудиться, схватить насморк, кашель, пожалуй… Очень неприятно!»
Федоренко нанял извозчика и был очень недоволен целый день, тем более что переторжку отсрочили.
Одно за одним
А Шульц?.. А Генриетта?… Что было с ними? Они как будто ожили новою жизнью, и души их с новой силой вооружились против враждебной судьбы. Каждый вечер, когда Федоренко отправлялся к княгине поиграть или повертеться около ее виста, Генриетта отсылала свою горничную, дрожащею рукою отпирала дверь заднего крыльца — и Шульц с трепетом прокрадывался в ее уединенную комнату, и дверь за ними затворялась, и они оставались одни.
Но беседа их была чиста и безгрешна. Модный человек насмеялся бы вдоволь, глядя на них. Иногда они молчали оба; иногда Шульц рассказывал про свое детство, про старичка органиста своего незабвенного, иногда Генриетта припоминала и прежнюю жизнь свою, и первое знакомство с Шульцем, и посвящение свое в таинство музыки. Тогда Шульц садился у ног ее на скамейке и, глядя на нее с благоговением, сливал свой огненный взор с ее небесным взором. И в этом длинном, упоительном взгляде выражались и скорбь прошедшего, и счастье настоящего, и какое-то неясное упование на лучшую, неизвестную участь.
С тех пор как они сблизились, они ничего не желали:
жизнь для них остановилась, все было забыто, кроме счастья видеть друг друга.
А между тем в Петербурге пронесся слух, что княгиня Г*** занемогла весьма опасно и что на консилиуме уже приговорили ее к смерти…
А между тем Федоренко с некоторого времени был очень встревожен и потирал себе голову. Имение на имя жены было куплено; казалось, все ему удавалось; одно его беспокоило: беспрерывное превращение его калош — они то и дело что менялись в темном коридоре, где было его платье. И точно, это было очень странно: захочет ли он поутру в сырую погоду, например, идти погулять — вместо новых, прекрасных калош человек подает ему калоши испорченные и проколотые, а калоши, по-видимому, сделаны для него; разбранит ли он человека и прикажет выбросить дрянь эту из окна, а на другое утро человек приносит ему калоши блестящие, светлые, чистые, во всей первобытной красоте… Это его мучило; он сделался подозрителен.
Однажды Шульц сидел у ног Генриетты и держал ее руку. Лицо его было светло.
— Генриетта! — говорил он. — Никакое земное чувство не должно помрачить нашу любовь. Ее начала поэзия и перенесла в небо. Но мне как-то стало страшно:
быть может, нам недолго оставаться вместе; а я не слыхал еще из уст ваших слов любви; я боюсь умереть, не имев этого утешения. Вы помните, когда мы были в Вене, вы мне обещали и сердце и руку вашу. Вот и кольцо, которым мы обручились. Но ни раза не выговорили вы священных слов, которых жаждет душа, ни раза вы не сказали еще мне: «Карл, я люблю тебя…»
Генриетта задумалась.
— Если б что-нибудь земное, — сказала она, — вкралось между нами, вы никогда бы не узнали порога моей комнаты. Я достойна была понять вас, потому что я поняла вас. Но с нашей любовью… слова любви несовместны.
Они замолчали и взглянули друг на друга.
В эту минуту дверь настежь отворилась, и две калоши, влетев в комнату, с шумом ударились об пол. В дверях стоял Федоренко, багровый от гнева. Шульц вскочил с своего места. Генриетта закрыла лицо руками.
Федоренко злобно улыбнулся и подошел к музыканту.
— У каждого своя фантазия, — сказал он. — Вы не любите, чтоб нюхали из вашей табакерки табак, я не люблю, чтоб носили мои калоши, — слышите?.. Вы любите давать какие-то скверные концерты и ходить к чужим женам, а я люблю выпроваживать нахалов в окно — слышите ли?
— Стойте! — закричал Шульц. — Если дорожите жизнью!..
Генриетта бросилась между ними.
— Бррр… Дуэли, пистолеты — слуга покорный! Я с такими вертопрахами разведываюсь иначе. Дворника да кучера — вот вам и дуэль. Вон отсюда!
— Послушайте! — сказал задыхающимся голосом Шульц. — Выслушайте меня. Клянусь вам памятью моей матери, клянусь всем, что есть святого в мире, что жена ваша непорочна.
— Бррр… Знаем мы эти шутки, господин музыкант!
Мне сорок осьмой год. Старого воробья не надуешь!
Генриетта с гордостью взглянула на мужа и обратилась к Шульцу.
— Карл! — сказала она тихо и торжественно. — Я люблю тебя!
Слезы брызнули из глаз Шульца.
— Я люблю тебя, потому что ты не