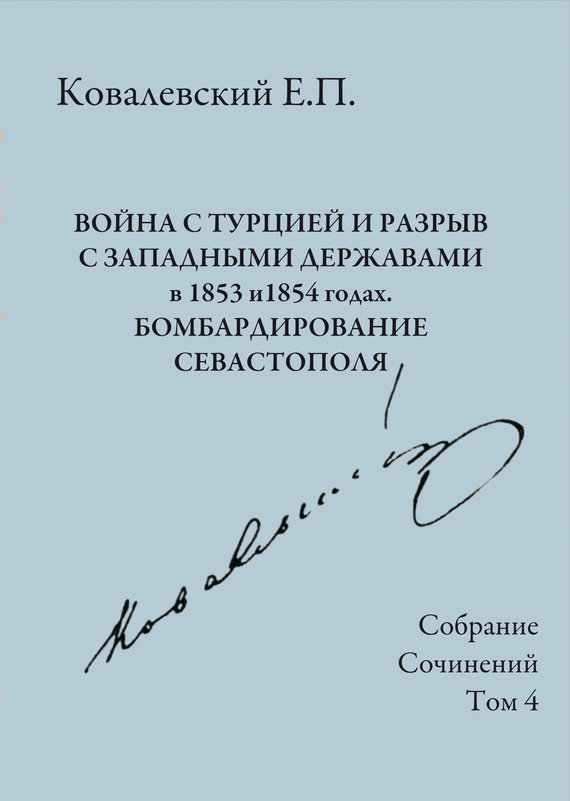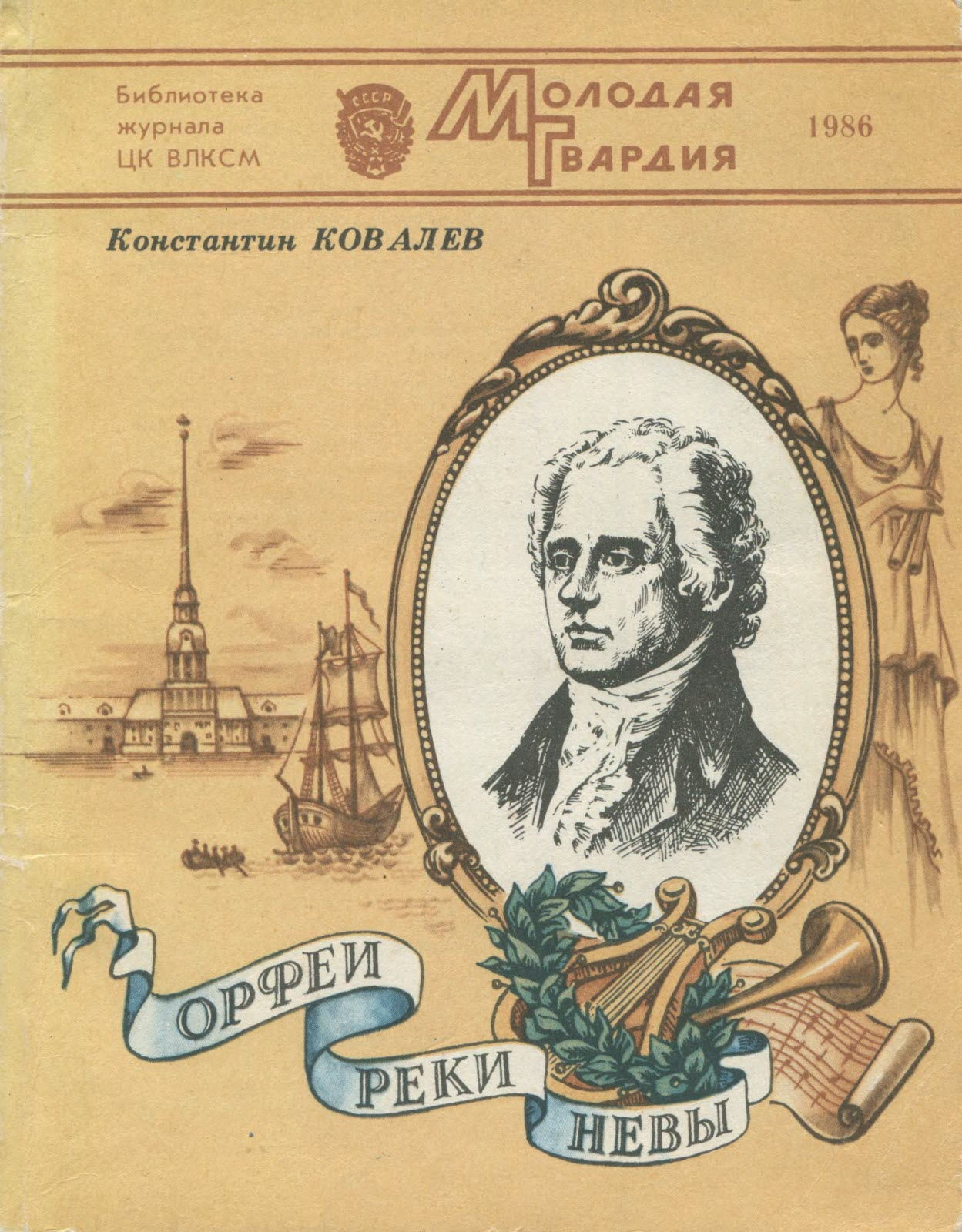oncle d’Amérique[167]), уехал во Францию, в Марсель, откуда он был родом, чтоб там получить наследство довольно изрядное, которое потом он спустил в Париже и в 60-х годах, т. е. 30–40 лет спустя после того, что я сотрудничал в его «Furet», уже в летах довольно преклонных профессорствовал в Петербургском университете и снова издавал здесь французский журнал, не имевший ни успеха, ни значения[168]. Во время этого вторичного появления господина Сен-Жюльена в Петербурге я с ним никаких сношений не имел, а знаю только, что моя статья о Жукове, переданная мною редактору «Furet» в конце января 1830 года, не была в его листке напечатана, но в 1831 году господин Сен-Тома, лектор С.-Петербургского университета и издатель еженедельного листка «по образу и подобию» «Furet» – «Le Miroir», просил меня дать ему экземпляр этого перевода статьи о Жукове, что я тогда же и исполнил, и статья о «Gilblaz-mougik Basile Joukoff» была напечатана в «Miroir» 1831 года, кажется, в апреле или мае месяце.
Познакомясь с этим самым «Gilblaz-mougik» Василием Григорьевичем Жуковым в ноябре 1829 года, я продолжал мое с ним знакомство и бывал на его эксцентрических пирах, когда летом в Екатерингофе шампанское Жукова распивали как знакомые его, так [и] вовсе не знакомые с ним, – до 1837 года, когда Жуков женился в третьем браке на смолянке «исторической» Марии Парижской[169]. Дерзкое обращение этой молодой капризной самодурки отогнало очень, очень многих, и в числе этих многих и меня, от гостеприимного крова Жукова. Но ведь правду гласит старинная наша пословица: «Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся». И вот, по истечении 40 лет я, в течение этого времени вовсе не бывавший у Жукова и ни разу не видавший его, как-то непонятно опять с ним сошелся, и эта встреча в 1877 году повела к тому, что как-то так устроилось, что я без весьма малого шесть лет изо дня в день, из часа в час провел с Жуковым, какое сообщество с этим маститым маньяком-эгоистом наградило меня за гонорар в 1500–2000 рублей в год неизлечимыми ревматизмами и болезнью сердца, благодаря всему тому, что я в эти шесть лет физически и нравственно испытал в сношениях моих с этим диким самодуром и бессердечным, грубым эгоистом, влюбленность которого в свое «я» доходила до абсурда. Один из моих знакомых, которому известен был плюшкинский образ жизни Жукова в вечно холодном из экономии и заросшем грязью, по страсти к грязи, кабинете и вообще его различные гнусно-возмутительные выходки, говаривал обо мне: «В эти шесть лет, проведенные Владимиром Петровичем с Жуковым ежедневно, ежечасно, то же самое, что ежели бы судьбе угодно было на шесть лет положить его в отвратительную могилу, полную червей, с разложившимся трупом».
Такое положение, конечно, никакими деньгами не вознаграждается[170].
Хотя Жуков в эти шесть лет постоянно молчал о том обстоятельстве, что моя статья 1829 года в «Северной пчеле» вполне поставила его на ноги и даже воскресила, он, проникнутый самою грубою неблагодарностью, никогда не упоминал об этом столь важном в его жизни обстоятельстве, но со всем тем он чуть не ежедневно говорил мне, что я не забыт в его духовном завещании, одною из статей которого мне назначено 10 тысяч рублей на память о нем, с тем, чтобы я выпустил в свет книжку о нем. Я имел слабость верить этому жуковскому толкованию, повторяю, почти ежедневному, и, признаюсь, жил в этой мечте до 17 декабря 1882 года, т. е. до дня смерти Жукова, когда мне сообщили не духовное завещание, какого вовсе и не было, а проект духовного завещания, на основании которого, с устранением от всякого наследства трех замужних дочерей, как уже достаточно им награжденных при замужестве (по 150 тысяч рублей серебром каждой), все, что оставалось в недвижимом и движимом имуществе, переходило полуидиоту от пьянства, единственному в живых оставшемуся сыну[171], на которого, между прочим, возлагалось немедленно уплатить по оставленным им трем его любовницам капитал до 50 тысяч рублей серебром. Да, этот 87-летний развратник обеспечил только трех своих гетер. Обо мне же не было и слова упоминания в проектированном завещании.
Такое злодейское отношение ко мне жестоко огорчило меня, усилив мгновенно мою болезнь сердца, чрез что у меня окончательно образовался аневризм, от которого я рискую умереть скоропостижно, при разрыве сердечной плевры. Аскультировавшие[172] меня врачи, из лучших в Петербурге, мне это предсказали. Но я надеюсь и молю Бога, чтобы не умереть, не издав книги (в 30 печатных листов), мною написанной и рукопись коей, приготовленная в печать, находится в настоящее время в Москве, нося заглавие такое: «Самородок-самодур. 100 (сто) эпизодов из анекдотивно-эксцентричной жизни некогда (с 20 на 60-е годы) громкознаменитого Василья Григорьевича Жукова»[173].
Некоторые очень рельефные и довольно откровенные отрывки из этой книги были напечатаны в 1883 г. (сентябрь и октябрь) в «Петербургской газете», а другие, до выхода означенной книги к концу 1885 года, в «Живописном обозрении» или в новосозданном журнале «Родина» г. Пономарева[174], впрочем, журнале до того негласном, что никто в Петербурге не знает о его скромном существовании[175].
Воспоминания петербургского старожила
Вместо предисловия
Объяснения к истории «Воспоминаний петербургского старожила (В. П. Б.)»
Нет ни одного рода литературных трудов столько неудобного для воспроизведения в печати, как род ретроспективный. Это доказано тысячами опытов, как в общеевропейской литературе, так и в нашей отечественной.
Ежели автор ретроспективных «Воспоминаний», извлеченных из его ли многолетней жизни, из собрания ли и сопоставления в одном стройном целом чужих данных, задался целью изобразить характеристику различных современных ему общественных деятелей известной, не слишком давнишней эпохи, актеры которой еще имеют в живых близких наследников; ежели автор этот хочет представить объективную картину общественного быта и общественного строя собственно этой эпохи и при этой своей работе этот автор обмакнет свое перо в розовые чернила, стараясь представить все им рассказанное чрез призму розовых же очков, надетых им с намерением льстить потомкам тех личностей, которых он описывает, или тем из этих изображаемых личностей, которые еще живы, тогда строгая и справедливая критика и, главное, общественное чувство, как бы ни было безукоризненно изящно и занимательно все этим автором-льстецом изложенное, непременно отнесутся к труду его с заслуженным им скептицизмом и недоверчивостью, хотя, впрочем, сначала, может быть, такой автор будет встречен рукоплесканиями; но скоро перо его заподозрится в