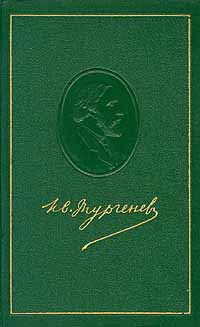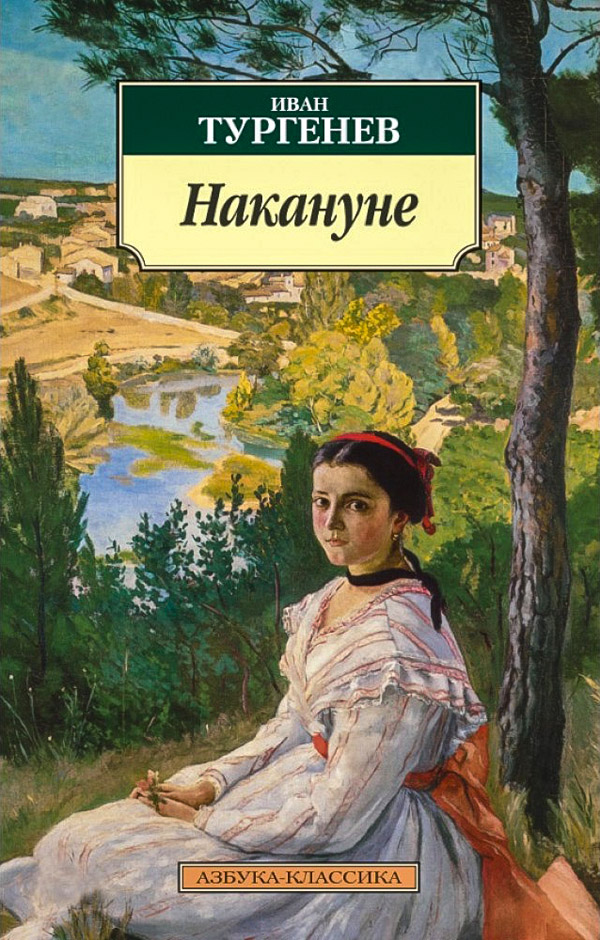радио, говорит, лучше. А теперь в армии служит. Может, заведешь, чего-нибудь нахрипит?
Катя щелкнула металлической застежкой, открыла крышку. Взяла из небольшой стопки пластинку, поставила на диск. Подергала за какой-то рычажок, диск даже не пошевельнулся.
— Чего это он? Заржавел?
— А ты ручкой покрути, как трактор заводится. Вот в эту дырку воткни.
Ручка заскрипела, внутри, что-то щелкнуло. Диск закрутился, и Катя осторожно опустила мембрану на пластинку. Раздался хрип, стук, цокот копыт, потом послышались звуки инструментов, запел хор:
Полюшко-поле,
Да полюшко — широко поле,
Ехали да по полю геро-ои,
Эх, да Красной Армии герои…
— Поет! — обрадовалась старуха. — Я думала, совсем лишился голоса, а он шумит.
Катя с удивлением смотрела на патефон, как на старомодную игрушку.
— Смешная штука. Музей!
— Поставь на место, — сказала старуха. — Пускай живет, никому не мешает.
Были в этой квартире и полки с книгами. Все больше старинных книг дореволюционного издания, попадались и новые, несколько томов Горького, «Молодая гвардия» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, басни Михалкова, «Блокада» Чаковского, «Вишневый омут» Алексеева, «Щит и меч» Кожевникова, «Капля росы» Солоухина. Два-три журнала, медицинские сборники, брошюры с портретами киноартистов. Все было сложено в одном месте, в Сережиной комнате в небольшой нише напротив окна. Тут же стоял письменный столик, а над ним висел в темной раме большой портрет Пушкина.
Переселившись на время в комнату сына, Мария Ивановна оставляла дверь открытой, прикрывала только на ночь, когда ложилась спать. Показывая комнату Кате, она просто сказала девушке:
— Ты заходи, когда тебе нужно, не стесняйся. Бери любую книгу, читай, они для этого существуют. Тут всякие есть, от моего отца остались, потом я сама покупала, и Сережины есть, он тоже любитель. Бывало, засядет за книжку, всю ночь просидит.
На работу Катя ходила в дни дежурства Марии Ивановны. Так было удобно и совсем не боязно, если что-нибудь сделает не так, как надо, никто не поругает, если чего не знает, спросит у Марии Ивановны, та терпеливо объяснит и покажет. А впрочем, все вышло легко и просто, Катя была сообразительная, быстро усвоила нехитрое дело. К одному никак не могла привыкнуть — к виду беременных женщин, особенно молоденьких. Как встретит такую, проводит в кабинет и обязательно спросит по дороге:
— Рожать будете?
— А как же? Известное наше бабье дело.
Случилось так, что ни одна из женщин за все Катины дежурства не отказывалась рожать, всем хотелось иметь детей, все были рады, когда докторша говорила, что все в порядке, можно не волноваться. Это успокаивало Катю, отгоняло от нее грустные мысли, страх постепенно рассеивался, на душе становилось светлее, она реже хмурилась, чаще улыбалась, смелее ходила по улице.
Мария Ивановна незаметно приглядывалась к Кате, не докучала ей лишними расспросами, понимала девушку с полуслова. Она видела, с каким участием Катя приводит в кабинет и провожает женщин, как бережно поддерживает под руку молоденьких, пришедших на прием к врачу в первый раз, чувствуя себя равной и такой же счастливой.
«Молодец Катюша, оживает, как травинка на весеннем солнышке, — с облегчением думала Мария Ивановна, любуясь девушкой. — Не сорвалась бы, удержать ее надо, все образуется, сама же спасибо скажет. Какая, право, красавица, и добрая душа».
Однажды Мария Ивановна во время осмотра больной, принимая от Катюши судок с прокипяченным инструментом, заметила, как у девушки дрожат руки. Она молча посмотрела на Катю, увидала слезы в ее глазах, укоризненно качнула головой. Катя отвернулась и вышла. Мария Ивановна взглянула в окно, куда перед этим смотрела Катя. Совсем близко по аллее шла молодая женщина и рядом с ней мужчина. Он нес на руках ребенка в синем одеяльце, видно только что из родильного отделения. Оба радовались, смеялись, отворачивая уголок одеяла, поглядывали на лицо младенца, прижимаясь друг к другу. Мужчина был высокий, сильный, уверенно и твердо шагал, а хрупкая, тонкая женщина слабой рукой держалась за плечо мужа, поспешала рядом, счастливая, с сияющим лицом.
Мария Ивановна поняла, отчего заплакала Катя. Видно, вспомнила того, кто был бы отцом ее ребенка.
Когда после работы женщины возвращались домой, Мария Ивановна спросила:
— Ты видела, как несли ребенка?
Катя молча кивнула.
— И пожалела, что у тебя не будет такой радости?
— Обидно, — сказала Катя. — Да черт с ним, переживу!
Она ударила ногой лежащий на дорожке камень, швырнула его на клумбу.
— Гол! — закричала она и засмеялась. — Помните песню: сама садик я садила, сама буду поливать? Вот так и буду жить, Мария Ивановна. Одна в двух лицах: буду своему ребенку и мать, и отец.
Марии Ивановне нравилась Катя в такой решимости и гневе. Давай, проявляй характер, думай самостоятельно, не трусь.
— Скажи мне откровенно: любишь его? — осторожно спросила Мария Ивановна.
— Не знаю, что было со мною, — сказала Катя, растягивая слова, будто обдумывала то, что говорила. — Ничего в душе не осталось, кроме обиды на него. Такая тяжкая обида, как ножевая рана. Заживет?
— Бывает. Дай время. Не отчаивайся.
Мария Ивановна с этого дня еще больше стала верить, что Катины душевные раны залечит время.
Как-то Марии Ивановне понадобился доктор Леонов для небольшой консультации. Она послала за ним Катю в родильное отделение. Прошло более часу, явился доктор Леонов, сделал свое дело, ушел, а Катя все не возвращалась. Наконец она прибежала возбужденная, с сияющим лицом, запрыгала перед Марией Ивановной и захлопала в ладоши.
— Какие чудеса, если бы вы знали! Смешные маленькие человечки! Орут, дрыгают голенькими ножками, тянут ручки, надувают розовые щечки. Никогда не видала столько малышей вместе, глаз нельзя оторвать, какие милые! Да что вы молчите? Если бы вы посмотрели!
Мария Ивановна улыбалась, глядя на Катю.
— Я их не одну тысячу повидала. Какие бы ни были маленькие, а уже люди.
После этого случая Катя почти каждый день находила повод, чтобы заглянуть в родильное отделение. Мария Ивановна заметила это и сама иногда посылала Катю.
— Пускай привыкает, — думала Мария Ивановна. — Кажется, в ней проснулось настоящее материнское чувство, теперь она все передюжит. И страх, и сомнение, и прежнюю нерешительность перед извечным естеством женщины…
Вскоре Мария Ивановна, приглядываясь к Катерине, заявила:
— Ну, девка, хватит тебе работать. Пора брать расчет, сиди дома.
Уже дули осенние ветры, мели по улицам сухую пыль. С деревьев слетели листья, голые ветви клонились к заборам, стучали в окна. Незаметно подкрались холода, все реже проглядывало солнце из-за туч, наступила пора туманов, дождей и непролазной слякоти.
Чтобы не оставлять Катю без дела, женщины приспособили ее к новому занятию. Уже много лет Александра Нестеровна брала