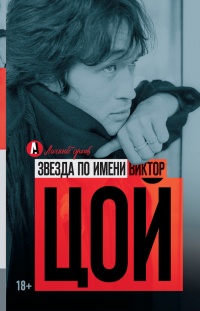бежать куда‑нибудь за границу. На этот случай у него была припасена значительная наличность в золоте и особенно в драгоценных каменьях, по преимуществу в брильянтах, что было очень практично, так как каменья было легче прятать и везти, чем тяжёлые мешочки с золотом.
Если арест Ягужинского и торжество верховников повергли в ужас Рейнгольда и возбудили негодование и тревогу в Степане Васильевиче, то с души Натальи Фёдоровны эти события сняли тяжёлый гнёт. Значит, её «предательство» не принесло зла Арсению Кирилловичу, этому доверчивому, восторженному юноше, так беззаветно отдавшемуся ей. Она повеселела, оживилась.
«О, только бы он скорее вернулся, — думала Наталья Фёдоровна. — Я искуплю перед ним свою вину. Я дам ему счастье, о котором он грезит…»
И в гордом сознании своей красоты она смотрелась в зеркало. Зеркало отражало её лучистые глаза, тяжёлые волны тёмных волос, нежное лицо, на котором ни сердечные бури, ни бессонные ночи не оставили ни малейшего следа.
Наскучившись сидеть дома, успокоив свою совесть, Наталья Фёдоровна прекратила своё добровольное затворничество и каждый день с утра уже обдумывала, у кого побывать. Она навестила Настасью Гавриловну, жену князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Там она узнала все подробности постигшего семью Ягужинского горя. Со слезами на глазах рассказала Настасья Гавриловна о несчастье своей сестры, жены Ягужинского.
— Бедная Анна совсем больна, — говорила она. — Машенька бродит как тень. В доме произвели обыск. Все бумаги опечатали. Захватили секретаря графа Кроткова и его доверенного, второго секретаря, Аврама Петровича, и увезли в тюрьму… Где сам Павел Иваныч — никто не знает. Одни говорят: в тюрьме, другие, что он под караулом в отдалённых комнатах кремлёвского дворца. Отец, канцлер, ничего не может сделать. Всем заправляют Долгорукие да Голицыны. Они не остановились на аресте Ягужинского. По всем полкам они отдали распоряжение объявить в присутствии всех чинов, торжественно, при барабанном бое, что подполковник гвардейских полков, генерал-адъютант граф Павел Иваныч Ягужинский уличён в государственной измене.
Лопухина делала сочувственный вид, но в глубине души была совершенно равнодушна.
Потом она побывала у Черкасского. Там она встретила молодого Антиоха Дмитриевича Кантемира, известного ей как пиита, зло осмеявшего в своё время Ивана Долгорукого под именем Менадра. Она много слышала о Кантемире, когда во время фавора Долгоруких при юном императоре Петре II ходили по рукам его стишки, направленные против фаворита. Она даже помнила некоторые строки, особенно имевшие успех в обществе, настроенном враждебно против Долгоруких:
Не умерен в похоти, самолюбив, тщетной
Славы раб, невежеством наипаче приметной,
На ловли с младенчества воспитан с псарями,
Как, ничему не учась, смелыми словами
И дерзким лицом о всех хотел рассуждати
(Как бы знанье с властью раздельно бывати
Не могло), на всеми свой совет почитати
И чтительных сединой молчать заставляя…
Кантемир имел свои причины ненавидеть верховников. Он был лишён майората по милости князя Дмитрия Михайловича[45], нашедшего его притязания в этом запутанном деле, как наследника молдавских господарей, неосновательными. Долгорукие были возбуждены против него за его сатиры, направленные против них. Естественно, что юный Кантемир примкнул к их врагам. Кроме того, он был увлечён красавицей Варенькой, единственной дочерью князя Черкасского, богатейшей невестой в России.
Варенька, по молодости лет, обожала Лопухину, считая её образцом красоты и изящества. Это льстило самолюбию Натальи Фёдоровны, и она охотно бывала у Черкасских.
Там теперь она услышала те же жалобы на самовластье Верховного Совета и сочувствие Ягужинским и увидела страх и растерянность перед решительными мерами Верховного Совета.
Всё это был один круг, сплетённый из родственных и свойственных отношений. Ягужинский женат на дочери канцлера, брат фельдмаршала Трубецкого — на другой дочери, Черкасский — на сестре Трубецкого и так далее.
В эти дни Наталья Фёдоровна побывала и у Салтыковых, и при дворе царицы Евдокии и везде видела непримиримую ненависть к «затейкам» верховников и тот же страх перед ними. Встретила Феофана, который с особым удовольствием дал ей своё архипастырское благословение. Ещё молодой владыка — ему едва ли было сорок восемь лет — был неравнодушен к женской красоте.
Из всех своих посещений Лопухина вывела заключение, что, во всяком случае, страх перед верховниками был сильнее ненависти к ним. Эти посещения развлекали Лопухину и сокращали для неё время ожидания приезда Шастунова, сопровождавшего императрицу.
А императрица, видимо, торопилась. Выехав из Митавы 29 января, она 2 февраля была во Пскове, 4-го в Новгороде, 7-го в Звенигородском Яме, 8-го в Вышнем Волочке и 9-го вечером уже в Клину. Курьеры беспрерывно скакали к сопровождавшему её князю Василию Лукичу и от него на Москву. Верховный Совет собирался и днём и ночью, распоряжаясь и заготовкой подвод, и церемониалом, и следствием по делу Ягужинского, и переговорами с представителями знати и шляхетства, являвшимися по приглашению князя Дмитрия Михайловича подавать свои мнения о государственном устройстве.
Князь Дмитрий Михайлович только хватался за голову. Проекты сыпались один за другим. И все проекты, не отвергая или обходя вопрос об ограничении самодержавия, на первый план ставили ограничение власти Верховного Совета.
— Господи! — восклицал Дмитрий Михайлович. — Да разве в моём проекте нет шляхетской палаты… Я говорил, что надо обнародовать мой проект. Ведь они, — говорил он фельдмаршалу Василию Владимировичу, — смотрят на Верховный Совет как на врагов шляхетства. Это вы виноваты! Смотри, Матюшкин, какой‑то Секиотов, князь Алексей Михайлович, скрытый враг, вот проект, подписанный тринадцатью, и ещё, и ещё…
Дмитрий Михайлович с озлоблением перебирал гору бумаг, лежавших на его столе.
— И все они говорят о правах шляхетства. А крестьяне? Вот смотри, что о них говорится. — Он в волнении взял лист и прочёл: — «Крестьян сколько, можно податьми облегчить, а излишние расходы государственные рассмотреть». А, что скажешь? Облегчить податьми! Да в том ли дело! Не податьми только облегчить, а волю, волю, слышишь, князь, волю дать! То дело грядущего. Сычи! Совы! Дай время — всё сделаем! Не могут понять, что первый шаг важен!..
И Дмитрий Михайлович в волнении заходил по комнате.
— Я дам тебе время, — сурово и важно сказал Василий Владимирович. — Ты голова, ты и думай. Я говорю тебе, что дам тебе время. Ты только не мешай. Ты голова — мы руки. Всё возможно, когда войско в руках. Иди, не останавливайся, не задумывайся. Великий император говорил: «Промедление безвозвратной смерти подобно». Не останавливайся. Не надо жалеть их! Мы их сметём, и они