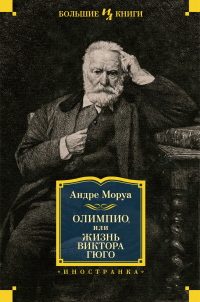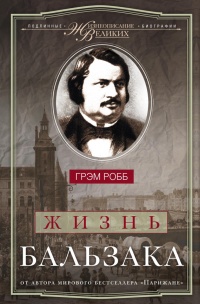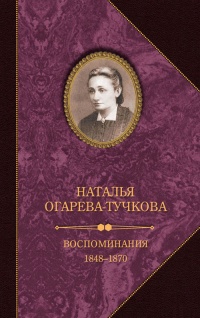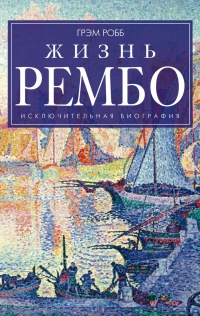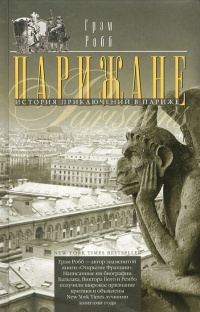Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 196
Наконец, Гюго приступил к теме Великой французской революции, хотя по-прежнему не пробовал исследовать пробел в собственной жизни. Даже если он не знал, что его двоюродная бабка Луиза была любовницей Карье{1334}, которого в романе, да и повсюду приводят в пример самой страшной революционной «злобы»{1335}, трудно поверить, что, обладая такой феноменальной памятью о салоне матери и имея непосредственный опыт жизни при пяти режимах, он не нарисовал более точной картины собственного прошлого. Все его творчество неожиданно становится самой долгой психологической отсрочкой в истории литературы. Описание болотистых, кишащих шпионами бретонских лесов, где предположительно познакомились его родители и где революция «родила» цивилизацию, вызвано воспоминаниями другого рода – воспоминаниями о безумном разуме, который тянет в самые темные углы: «Трудно даже представить в наши дни тогдашние бретонские леса, – это были настоящие города. Глухо, пустынно и дико; не продерешься через сплетение колючих ветвей и кустов; неподвижность и молчание обитают в этих зеленых зарослях без конца и без края; одиночество, какого нет даже в смерти, даже в склепе; но если бы вдруг одним взмахом, как порывом бури, можно было бы снести все эти деревья, то стало бы видно, как под густой их сенью копошится людской муравейник»{1336}.
В подтексте – урок: хотя выросшие без матери герои-мужчины из романа Гюго могут опираться лишь на свои принципы и стремиться к самоуничтожению, автор продолжает жить – но не просто представляя историю «в духе протестующего гуманизма»{1337}: смехотворное или пророческое, но это часть обаяния рассказчика. Как только волшебство ослабевает, становится ясно, что оптимизм Гюго почти ни на чем не основан. Единственное его теоретическое оправдание принимает форму дурацких аксиом: «Если бы Бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылке»{1338}. В то же время единственным решительным предложением к учреждению будущей утопии (не считая освобождения священников и солдат и наделения собственностью всех граждан) является эффективное использование человеческих фекалий. «…теперь вы спускаете туки в сточную канаву, – говорит Говэн незадолго перед казнью, – внесите их в борозду»{1339}. Видеть в «Девяносто третьем годе» протест против «растущего варварства капитализма»{1340} – значит игнорировать отвращение Гюго к системам любого рода и его по-детски огромную любовь к разрушению. Он как будто готовился к тому, что вскоре выльется в «Искусство быть дедом».
Если бы Бог желал, чтобы Гюго стал серьезным политическим мыслителем, он не подарил бы ему способность извлекать выгоду из самообмана. Гюго выживал, намеренно погружаясь в нелепость, в абсурд. Образы в его творчество проникали из упорно феноменологического подхода. Гюго превратился в водяное колесо реки Истории, но исток этой реки ему не дано было исследовать:
«Революция есть, по сути дела, форма той имманентной силы, которая теснит нас со всех сторон и которую мы зовем Необходимостью.
И перед лицом этого загадочного переплетения благодеяний и мук История настойчиво задает вопрос: почему?
Потому – ответит тот, кто ничего не знает, и таков же ответ того, кто знает все…
Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость»{1341}.
Учитывая божественный ответ – «Потому», – чудо на этой поздней стадии жизни Гюго заключается не в том, что он пережил свои истоки, а в том, что ему удавалось сохранять необходимое неустойчивое равновесие, которое подпитывало его творчество.
И в «Отвиль-Хаус» разворачивалась битва между необходимостью и нравственностью. Жюльетта, которая поочередно переживала периоды неведения и грубого пробуждения, подходила к концу фазы слепого обожания. Переписав «Девяносто третий год» подагрической рукой, она бросилась на колени от восхищения: «В грядущую эпоху отсчет будут вести от Виктора Гюго, как сейчас ведут от Иисуса Христа»{1342}. Вместе с тем ей постоянно напоминали о несовершенстве мессии: надушенные письма и необъяснимые отлучки. Однажды Гюго попытался перевести ее часы на полчаса вперед. Она заставляла себя верить – ее смешанный грубый и высокопарный стиль испытал на себе влияние Гюго, – что он простофиля, которого обманывают «охотницы за мужчинами» и «неудовлетворенные суки».
Новая горничная, Бланш, оказалась «образованной выше своего положения», по словам жены последнего секретаря Гюго, которая, судя по всему, была образована гораздо ниже своего положения{1343}. Официально считалось, что Бланш, потерявшую в детстве обоих родителей, взяли на воспитание друзья Жюльетты Ланвены. На самом деле она, скорее всего, была незаконнорожденной внучкой Ланвенов{1344}. Именно по паспорту Ланвена Гюго сумел в 1851 году бежать из Франции. Позаимствовав личность Ланвена, Гюго собирался занять у него и удочеренную девушку. «Подготовительная работа» (по выражению Гюго) началась в Рождество 1872 года. Бланш заранее предупреждали о повышенном дружелюбии Гюго, но, поскольку она знала несколько его стихотворений наизусть, похоже, он соблазнил ее заочно, как и большинство его знакомых женщин.
Роман с Бланш отличается от остальных в двух важных отношениях. Во-первых, до нее Гюго почти всегда выказывал предпочтение, как он эвфемистически выражался, «первой встречной»{1345}. Случайная близость была удобна, возбуждала его любопытство с психологической и социологической точки зрения, а анонимность позволяла легче охватить суть той или иной особы: «Женщина заключена в тех женщинах». Бланш, напротив, стала объектом упорной, настойчивой страсти, первой страсти, направленной на конкретную личность со времен Леони Биар.
Во-вторых, Гюго явно встревожил разрушительный потенциал его вожделения. Его дневник раскрывает необычно острую заботу о своей главной любовнице. «Случайное горе, – записал он 5 января 1873 года. – Постараться не ранить это нежное сердце, эту великую душу». Насущным вопросом теперь был не «восторжествует ли Провидение над Злом?», но «Погубят ли похоть и одержимость мир в доме?».
Ознакомительная версия. Доступно 40 страниц из 196