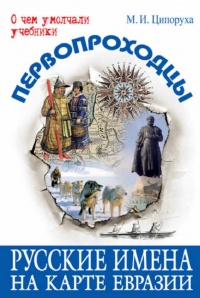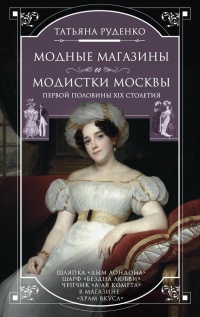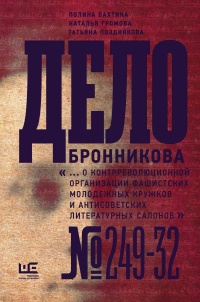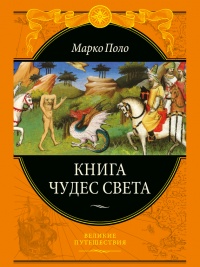— Мне рассказывали, что ты погиб в Мюнстере, пытаясь прорвать блокаду епископа.
Он прислоняется к одному из надгробий: руки на коленях, взгляд устремлен в землю. И он, как и я сам, уже слишком стар для таких холодных рассветов. К тому же теперь у него не осталось причин не вспоминать о прошлом.
— Ты ушел от нас весной тридцать четвертого искать деньги и амуницию в Голландию. Ты оказал мне услугу: мне бы очень не хотелось видеть, как и тебя бы увлекло в бездну, которую я собирался разверзнуть. Я прибыл в Мюнстер с заданием: присоединиться к анабаптистам в их борьбе с епископом, стать одним из них со всеми вытекающими последствиями, помочь им превратить город в Новый Иерусалим и в подходящий момент заставить их надежды развеяться как дым. Я представился Бернарду Ротманну, внеся солидное пожертвование на благо общего дела, и рассказал, что я наемник, не бывший в Мюнстере много лет. Если он и не поверил в мою историю, деньги еде лали свое дело.
Я смотрю на этого сгорбившегося старика, с трудом узнавая в нем человека, которому я доверял охрану рыночной площади в те дни, когда мы брали Мюнстер. Это лишь осколок, оставшийся от моего лейтенанта, Генриха Гресбека.
Он продолжает:
— Я связался с тобой, потому что мне рассказали, ты сражал ся с Томасом Мюнцером: ты был единственным, которого приходилось брать в расчет. Приход Матиса, его скорая кончина и избрание Бокельсона его преемником намного облегчили мою работу. Нужно было только, чтобы ты тоже ушел. Я стал доверенным лицом Бернарда Ротманна, превратившегося в простую тень пылкого проповедника, поднимавшего анабаптистов против епископа. Мне пришлось вспомнить лекции Виттенберга, когда я проводил с ним дни и ночи в дискуссиях о порядках Нового Сиона, об обычаях библейских патриархов, чтобы помочь его больному разуму породить фатальное безумие.
Это оказалось не слишком сложно: вскоре после того, как Бокельсон провозгласил себя новым Давидом, царем Сиона, по предложению придворного теолога Ротманна, он ввел полигамию, чтобы восстановить обычаи отцов. Это и стало концом. Не помню, сколько женщин было казнено из-за отказа подчиниться новым порядкам. Об этих месяцах у меня сохранились самые смутные воспоминания, как о дурном сне. Голод… Дома, где устраивали обыски, чтобы отыскать последнюю горбушку хлеба… Дети-судьи с печатью смерти в глазах, которые могли показать на любого неугодного, прямо на улице. Бледные, истощенные призраки горожан, почти бессознательно тащившиеся через весь город. Я мог бы уйти уже тогда, и конец наступил бы сам по себе. Но вместо этого, словно по какому-то волшебству, я почувствовал, что последний акт милосердия могу совершить только я. Именно я был обязан положить конец агонии.
Он выпрямляет спину с таким трудом, словно на его плечах лежит тяжелейший груз. Взгляд сфокусирован на какой-то точке в лагуне.
— Я прыгал по стенам, преодолел полмили, отделявшие город от линии фронта епископа, рисковал получить пулю, мок во рву и проторчал там с час, уверенный, что, подняв голову, превращусь в прекрасную мишень для наемников фон Вальдека. Меня схватили, и я избежал смерти, лишь слепив из глины модель крепостных стен и указав, где их можно штурмовать. Этого оказалось недостаточно: мне пришлось доказать справедливость своих слов, взобравшись ночью на стены и вернувшись невредимым. Помнишь? Ты же сам поручил мне проверку оборонительных сооружений. Я изучал их пядь за пядью. Только я мог сделать это. Совершить этот благородный жест пришлось мне.
Он снова скрючивается под тяжестью собственного веса.
Я протягиваю ему пожелтевшие страницы, рассыпающиеся между пальцев. Он читает, отодвинув листы от глаз на большое расстояние и сильно прищурившись.
— И ты хранил их все это время… — Он отдает мне обратно письма, написанные Томасу Мюнцеру двадцать лет назад.
— Ты уже тогда служил Караффе?
— Я был лишь одним из камешков мозаики, собиравшейся в течение многих десятилетий. Когда меня завербовали, я был всего лишь скромным помощником библиотекаря в Виттен бергском университете. Мне поставили задачу — не спускать глаз с Лютера. Тогда очень немногие люди понимали, как может разбушеваться этот тупой и никчемный монах-августинец. Караффа первым взял в расчет, что немецкие князья смогут исполь зовать его как таран для штурма ворот Рима и для наказания спесивого отпрыска, которому Фуггер купил императорскую корону. В столь сложной ситуации передо мной поставили задачу — возбудить у злейшего врага Лютера, Томаса Мюнцера, желание разжечь пламя крестьянского восстания против князей и отступника, ставшего их придворным. Когда восстание распространилось на всю Германию, Рим выиграл время, и Караффа попытался убедить кардиналов в том, насколько опасен Лютер. Но затем ситуация изменилась. Мальчишка-император оказался более амбициозным, чем ожидалось: его положение паладина католицизма на территории, простирающейся от Испании до Богемии, сделало его в глазах Рима значительно более опасным, нежели мелкие германские княжества. С этого момента защитники Лютера превратились в потенциальных союзников против императора. В то же время и восставшие крестьяне уже внушали страх. С крестьян ской войной надо было покончить. Эти письма послужили хорошей смазкой для всего механизма. Они стали моим вкладом в эту битву, способствовав моему продвижению по службе.
Постаревший Гресбек переводит дыхание, снова кашляет и смотрит на меня. На его лице появляется ухмылка.
— После взятия Рима в двадцать седьмом Караффа извлек из собственной способности к предвидению все возможные преимущества, теперь никто не осмеливался возражать ему, он с самого начала был прав: лютеране — пропащие люди, которых совершенно не испугало отлучение и которые разграбили папскую резиденцию. Он начал понемногу сосредоточивать в своих руках власть, поднимаясь все выше и выше в церковной иерархии и используя все новые и новые меры предосторожности.
Эти слова вылетают у меня сами собой:
— Сеть собственных шпионов в каждой стране.
Он кивает:
— Ему всегда удавалось получить информацию раньше всех остальных благодаря множеству наблюдателей, которых он держал во всех важнейших местах. Повсюду, где происходило что-то более-менее значимое, можно смело биться об заклад, у старика был свой человек.
Я прерываю его:
— Зачем он приказал тебе покончить с анабаптистами Мюнстера? Какое отношение они имели к Риму?
— Рим повсюду, Герт. В вас постоянно живет бунтарский дух, отказ подчиняться стоящим у власти. Лютер проповедовал безусловное повиновение. Вполне достаточно: с правителями всегда можно договориться. Но не с вами, вы постоянно стремитесь сбросить их иго, проповедуя свободу и неподчинение, а Караффа просто не мог позволить подобным идеям распространяться и впредь. Благодаря моим детальнейшим отчетам он понял, какую силу представляют организованные массы, увидел, что может натворить даже один-единственный проповедник, такой, как Томас Мюнцер. Анабаптистов надо было уничтожить до того, как они превратились в серьезную угрозу.
— В конце тридцатых Караффа отозвал всех своих шпионов. Монастырь театинцев стал местом вашего сбора.