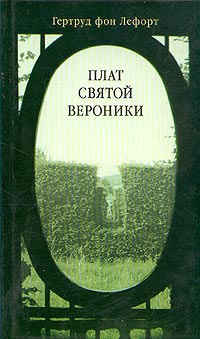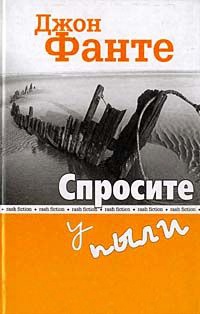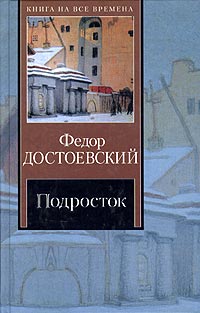Сегодня я уже при всем желании не смогла бы передать свое впечатление от этой лекции, ибо она, конечно же, пронеслась у меня над головой, словно ветер. По смыслу я понимала очень немного. И все же впечатление от нее было просто ошеломляющим. Я впервые в жизни почувствовала себя во власти чудовищного по силе воздействия ораторского таланта; вначале это была как бы власть некой стихии – как, например, море или буря, – но потом стала отчетливо видна разница, которая заключалась в том, что эта стихийность – всего лишь носитель, своего рода крылья духовного.
Это был широкий исторический обзор или, как мне казалось, своего рода духовное путешествие вокруг света. Мы плыли на невидимом паруснике по морям религиозно-философской мысли разных времен и народов. Системы сменяли друг друга, как ландшафты, мысли о Вселенной и о Боге вставали справа и слева, как величественные горы или силуэты огромных соборов, подъемлющих свои башни над горизонтом, а иногда торчали из влажной бездны, над которой скользил наш невидимый корабль, опасными рифами. Ибо хотя эти творения ни на миг не теряли своей идейной природы, они все же, благодаря мощной изобразительной силе этой ораторской стихии, были облечены в образно-цветную и пластическую чувственность, граничившую с художественным зрелищем. Но во всем этом не было – и это показалось мне, пожалуй, самым странным – абсолютно ничего невероятного и неожиданного, во всем этом было, напротив, что-то трогательно-родное – это было похоже на вспоминание . И я вдруг поняла: этот старинный храм науки, в котором меня каждый раз охватывало благоговение, как когда-то среди руин и дворцов Рима, пробуждал во мне те же способности, что и эти руины и дворцы, – он отрывал меня от моего «я», возносил над ним, и та же сила, породнившая меня когда-то с судьбой весталок и жен римских кесарей, теперь породнила меня с духами, которых вызывал мой опекун, – нет, с его собственным духом. Мне достаточно было просто полностью предаться в его власть, и я все поняла без подготовки, как и предсказывал Энцио…
Когда лекция закончилась, Энцио подошел ко мне.
– Энцио, эта лекция выше всех похвал! – воскликнула я.
Он блаженно улыбался мне.
– Да? В самом деле? – ответил он рассеянно. – Я сегодня почти не слушал, но то, что ты все понимала, это я заметил. Ты понимала все так, как только одна ты можешь понимать – до последней сути! Это было восхитительно – наблюдать за тобой, твое лицо и в самом деле было зеркалом. А теперь пойдем со мной, давай руку! Я не могу дождаться, когда ты сойдешь со своего трона!
Я все еще сидела на подоконнике.
– Ты, верно, думал, что я упаду в обморок? – спросила я.
Он опять почти весело улыбнулся:
– Да, сначала я так и думал, но потом вспомнил, как мы тебя раньше называли маленьким знаменем или птицей. Ветерок из окна играл твоими волосами так же, как тогда, когда ты карабкалась по камням среди древних развалин Кампаньи, забираясь на самые опасные высоты, где могли удержаться только птицы или знамя… Я вспомнил это и сразу же успокоился. А ты еще можешь летать, как тогда? – спросил он вдруг тихо.
Он, конечно же, имел в виду тот день, когда я прыгнула в его объятия с высокого обломка стены, – на мгновение мне почудилось, будто мы вновь остались совершенно одни на всем белом свете, как тогда среди колышущихся трав Кампаньи.
Он помог мне спуститься с моего «трона» и предложил, вдруг как бы поменявшись со мной ролями, прогулять следующую лекцию и отправиться вместе с ним в замок, ибо мне давно уже пора побывать в нем. А когда я спросила, как быть с его учениками, он потряс головой, как пудель, и заявил:
– Ничего с ними не случится, если и они разок от меня отдохнут!
Мы выбрались из жужжащего улья, в который превращались университетские коридоры во время перерывов, и окунулись в тишину нежного весеннего утра. Лекция моего опекуна закончилась очень рано – левый берег Неккара еще был укрыт тенью и томился в ожидании солнца, которое вот-вот должно было выглянуть из-за Кёнигсштуля. Мы направились в сторону Корнмаркта. Замок возвышался над ним отвесной скалой – дымчато-голубой замок-тень, готовый к тому, что свет в любую минуту может хлынуть на штурм. Солнце уже вывело серебряным карандашом прозрачные очертания обоих фронтонов Фридрихсбау[16], напоминающие рокайли; время от времени в его окна вонзались молнии первых лучей и вновь гасли в молочной дымке, покрывающей все, словно подвенечная фата. Мы тоже погрузились в эту дымку и пошли по узкой улочке, которая вела вверх сквозь тень замковой горы между двумя высокими древними стенами – они выросли с двух сторон, резко ограничив пространство, словно хотели закрыть нам обзор справа и слева, чтобы мы могли смотреть только друг на друга. Улица была так пустынна, что казалось, будто по ней уже сто лет никто не ходил. Только ветви высоких кленов, растущих за стенами, склонялись к нам и роняли нам под ноги, на блестящие от росы древние булыжники мостовой, целые пучки зеленых цветущих побегов. Порой сверху в это «ущелье», должно быть, залетал случайный луч, потому что каждый раз, как только мы смотрели друг на друга, над нашими головами что-то на секунду ярко вспыхивало. Мы действительно были одни на всем белом свете, как много лет назад в Кампанье! Я вдруг вспомнила, как мы тогда говорили о детях готов и франков, бродивших некогда по тем же местам, что и мы, и как представляли себе, что мы и есть – они; и теперь все было так же: мы как будто принадлежали друг другу с давних пор, и эта древняя дорога вела нас вверх, как некий путь, сужденный нам самой вечностью.
Энцио взял мою руку и тихонько пожал ее. Я ответила ему таким же едва ощутимым пожатием. Так, держа друг друга за руки, мы и пошли дальше. Через некоторое время он сказал:
– Да, Зеркальце, только так, и никак иначе. Иначе и быть не может!
Я понимала: он имеет в виду мои слова, сказанные в университетском коридоре.
– Да, иначе и быть не может, ничто не может отныне встать между нами, наконец-то и ты это понял! – ответила я.
– Нет, наконец-то ты это поняла! – возразил он, глядя на меня сияющими глазами. – Я знал это давным-давно – ты ведь была моим самым главным впечатлением от войны, почему ты никак это не поймешь?
– Мне казалось, что твоим самым главным впечатлением от войны была Германия, – сказала я.
– Да, но это в каком-то смысле одно и то же, – все так же сияя, ответил он. – Ты была для меня частью Германии, ты была немецкой женщиной, единственной, которая для меня существует! Каждый раз, когда я там, на фронте, думал о Германии, я одновременно думал и о тебе, и, когда было особенно тяжело и страшно, мне всегда хотелось позвать тебя. А потом… – Он вдруг смолк, словно собираясь с духом, чтобы отбросить последние сомнения и гордость.
– А потом… потом ты и в самом деле сделал это, Энцио, – сказала я, сжав его руку. – Ты ведь знал, что я услышу твой зов за тысячи миль, правда? Ты ведь знал это?
Он вновь посмотрел на меня, сияя от счастья, медленно поднял мою руку и прижал к груди, как будто это был ключ к его сердцу.