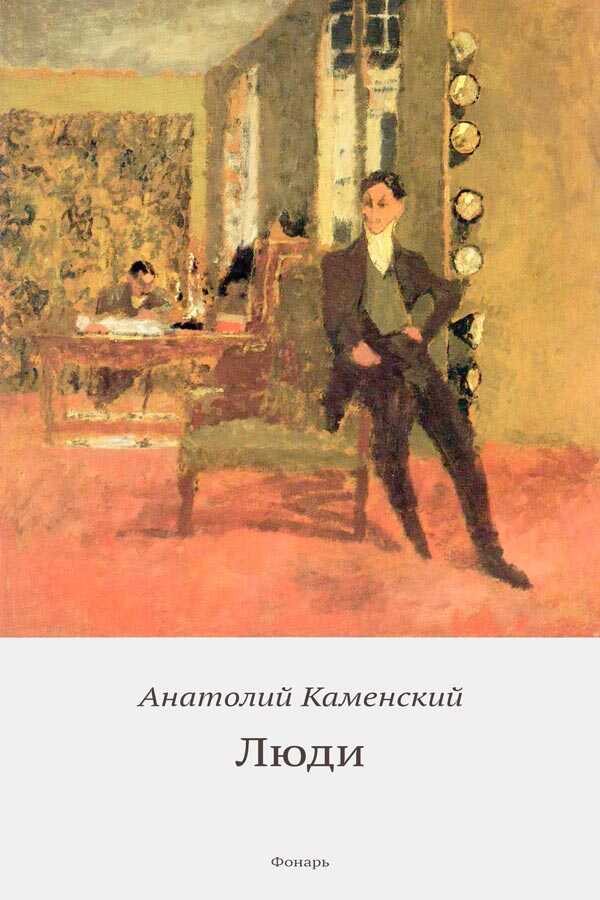за камнем, беспорядочные движения становились все более и более отчетливыми, и в этом укрытии ты не сводила с меня глаз. Я никогда ничего подобного не чувствовал. Ты немного пугала меня, понимаешь? Потому что ты была всем, чего я хочу, но я не знал, как сказать тебе об этом. Как же давно все это было. Не хочешь какой-нибудь шот? Давай-ка мы с тобой выпьем по шоту.
Мы откусили лайм, слизали соль с руки и залпом выпили по шоту текилы, а потом Клем сказал:
– Ты спросишь, почему я не позвонил. Прошу, постарайся понять меня. Я столько лет хочу тебе все рассказать. Я не знал, когда лучше позвонить – через два дня? Через четыре? А если позвонить слишком рано, вдруг ты решишь, что я ноль без палочки? Сам-то я прекрасно знал, что так и есть, – не хотелось только, чтобы об этом узнала и ты. Я кружил над своим несчастным телефоном дни напролет, и вот однажды он зазвонил. Я буквально набросился на него. Оказалось, это звонила мама: она сказала, что отец чинил антенну телевизора и упал с крыши, так что теперь он в коме. Я собрал вещи и через час уже сидел в поезде до Турина. Что тут сказать? Все происходило одновременно очень быстро и очень медленно. Когда я приехал, мой отец был еще жив. Мама все время пила, и каждый день мне приходилось возить ее в больницу: они жили далеко за городом, так что в дороге мы проводили часа три-четыре. Когда мы возвращались домой, я засыпал как убитый. Когда я просыпался, мама начинала болтать без остановки. Несла она при этом полную чушь. Одна за другой приехали мои сестры, потом прибыли другие родственники, дяди, кузены, не знаю, кто еще, я не был знаком со всеми. Я застилал постели, ходил за дополнительными стульями и полотенцами на чердак, разговаривал с врачами по телефону, стряпал для всей этой компании. Я вставал в семь утра, чтобы пойти за продуктами: покупал белый хлеб, масло, варенье, кофе, шоколад, фруктовый сок, рис, курицу, – и перед выходом из дома выслушивал пожелания лично от каждого члена семьи, зубная нить, мюсли, ватные палочки, но главным образом алкоголь, и, лавируя между рядами в супермаркете, я чувствовал вес этого алкоголя в моей тележке. Всякий раз я мысленно сравнивал его с весом отца – с весом его тела, которым, как становилось яснее с каждым днем, нам вскоре придется распоряжаться. На улице все еще было темно. Я ехал в свой проклятый дом детства, раскладывал покупки, проверял, что форма для льда заполнена, накрывал стол на завтрак, варил себе кофе, выходил покурить на крыльцо, и вот тогда да, я думал о тебе, и только о тебе, Оттавия, но я не мог позвонить. Все было слишком сложно. Я помнил, что ты собиралась остаться в Париже на несколько месяцев, и цеплялся за это, надеясь еще объясниться с тобой при встрече. Если честно, на мысли о тебе у меня было ровно четыре секунды в день. Через мгновение кухня уже кишела людьми, на ней истерически суетилось порядка двенадцати человек, которые на дух друг друга не переносили и никогда не будут переносить, – так начинался день. Я отвозил маму в больницу, там лежал мой отец с изуродованным лицом и сломанной челюстью, потому что, падая с крыши гаража, на которой находилась антенна, он напоролся на один очень странный, необычный предмет: это был зуб меч-рыбы на деревянной лакированной подставке, который мой дед подарил ему на шестой день рождения полвека назад. Через много лет после смерти той рыбы, которой этот зуб принадлежал по праву, он проткнул отцу правый глаз, часть носовой перегородки и остановился во рту. Отец был еще жив, но лежал без сознания, «и слава богу», как говорили медсестры. В первую очередь врачей беспокоило именно состояние его лица. В какой-то момент я понял, каким вопросом они задаются: может быть, он и будет жить, но как? Такая травма неизлечима. Поврежден слишком большой участок ткани. Восстановить изуродованное лицо задача реальная, но все еще сложная и с крайне непредсказуемым исходом. День за днем мы навещали отца, и повязка на его голове лишь частично скрывала последствия катастрофы. Я помню кровь, ее запах, помню отца в больничной пижаме с трубкой прямо во рту, помню, как ему подтирали слюну у подбородка, его руки, которые я уже столько лет не рассматривал так внимательно: теперь они казались мне старыми и сохраняли следы от никотина даже после двухнедельной комы. Передо мной лежал мужчина, который годами страдал от проблем со здоровьем. Возможно, он был пьян, когда поднялся на крышу. Ох, не стоило ему этого делать. Однажды я вышел из больницы, сел в машину и заплакал, я не мог остановиться, не мог перестать думать о том, что произошло, и о том, как долго мы были бессильны что-либо изменить. Сидя рядом со мной на пассажирском сиденье, мама держала меня за руку и шепотом повторяла мое имя. Когда я успокоился, она достала фляжку из сумочки и протянула ее мне. И это, черт возьми, была моя мать!
Клем подал знак официанту. Мы молча ждали, пока нам принесут по новой порции. Он выпил и сразу же поднял руку, чтобы заказать еще, но я помнила, что он почти не пьянеет, так что не волновалась. Передо мной скапливались полные бокалы. Он сказал:
– Три недели. Четыре. Пять. Я навещал его каждый день, а потом и каждую ночь. Однажды он вдруг открыл свой уцелевший глаз и с ужасом посмотрел на меня в темноте. Через несколько часов он умер. Обнаружив это, я крепко сжал его в объятиях. И почувствовал огромное облегчение. Но потом надо было организовать похороны, позвонить гробовщикам и нотариусам, приготовить сэндвичи на поминки, потом уехали сестры, и я остался с матерью один на один, чтобы помочь ей постепенно вернуться к жизни. Днем я не сводил с нее глаз, подобно шпиону, и только в полшестого разрешал выпить один-единственный бокал мартини. Но потом мне стало так скучно, я настолько устал от всего этого, что начал сдаваться. Я соглашался на партию в «Тривиал Персьют», мы играли, а потом пили, молча сидя у камина до самого утра. В это время я тоже иногда думал о тебе. Я уверял себя, что скоро вернусь, что уже почти вернулся. Что скоро все будет хорошо. Наконец я решился купить обратный билет. Оплата по моей карте не прошла – недостаточно средств. Я попросил денег у мамы, и вот тут-то она и сказала, что деньги у них закончились. Они никогда не отличались особой бережливостью: она не работала, он – только временами, они тратили больше, чем зарабатывали, и это, помимо всего прочего, объясняло причину происшествия. Зуб меч-рыбы никогда не должен был там оказаться, они всегда совершенно справедливо считали его чудовищно острым и заботливо прятали за дверью, но в надежде продать его через пару дней на местной гаражной распродаже отец вынес зуб на улицу – и на крышу явно полез потому, что им просто не на что было вызвать мастера. Я позвонил сестрам: о проблемах родителей, по их словам, они ничего не знали и одолжить мне денег тоже не могли. Наконец я умолил соседку помочь мне и смог вернуться в Париж. На вокзале я первым делом увидел табло с датой. Все это время я думал, что позвоню тебе, как только окажусь в Париже, но тут меня парализовал страх, когда я понял, как долго пробыл у матери. Я начал думать, что никогда не смогу объяснить тебе этого, в принципе не смогу тебе обо всем рассказать. Когда я изложил эти мысли своей лучшей подруге, она долго ругалась. Она сказала, что я самый тупой парень на свете. Что просто нельзя быть настолько тупым. Что я должен перезвонить тебе. Она