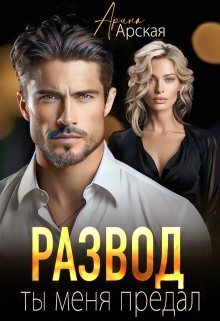и бесячей до трясучки и криков.
Теперь я получаю то же самое от своего сына. И мне остается согласиться с ним, что между нами, как между мамой и ребенком, очень много неловкости и недопонимания. Он мальчик. Он взрослеет, переживает гормональные перепады и становится юношей, а я все же женщина.
Ему сейчас нужен отец, который сам проживал все эти всплески агрессии, скуки, грусти и упрямства.
Больно, но, как мать, я сейчас не должна обижаться на то, что меня обвинили в душноте и чрезмерной навязчивости.
Сама же просила быть честной.
Материнство — это сложно.
Колики, бессонные ночи, покусанные соски, сопли — фигня по сравнению с тем, что происходит сейчас. Мой сын на сломе личности.
— Тебе, может, помочь? — заглядываю в комнату к Борису, который швыряет вещи на кровать.
Ух, какой злюка.
Я знаю, чего он ждет. Он ждет того, что я сейчас сяду, поговорю с Германом и попрошу его остаться, а то сыночке нашему очень плохо. Наивное желание, но сильное, и за ним последует разочарование.
Я не попрошу Германа остаться.
Это глупо. Если я не позволила ему за эти два года поговорить со мной, упрямо держала оборону, то и сейчас не буду мягкой и разговорчивой.
— Рада, что избавилась от меня? — Борька разворачивается ко мне, сжимая в пальцах джинсы до побелевших костяшек. — Поздравляю!
Сколько в нем страха. Он хочет все вернуть, как было, но вместо этого для него все становится хуже.
— Захочешь, возвращайся, — приваливаюсь плечом к косяку двери. — Это твой дом. Бещ игровой комнаты, но все равно дом. Я тебя всегда буду ждать.
Я сама на грани.
Я могу разреветься в любой момент от боли и от осознания того, что мой сын бросает меня. Уходит.
Был маленьким, розовощеким с крохотными ножками и ручками, а теперь собирает вещи, чтобы уйти от меня.
Но это эгоистичные слезы. Он будет жить у отца. У родного отца, который никогда его не обижал. Герман умеет заботиться, вести разговоры и строго следить за распорядком дня сына, которому надо отдохнуть от мамы.
Надо отдохнуть. Он не зря заговорил о чувстве вины передо мной. Это нехороший звоночек. Одно дело, когда тебе стыдно за то, что, например, разбил вазу, а другое — вина за то, что ты не можешь правильно взаимодействовать с матерью.
Эта неловкость и вина будет расти.
— Буду ждать, — повторяю я. — Ключи у тебя свои есть. Никто не лишает меня родительских прав, и я все еще твоя мама. Душная, да, но мама.
В глазах Борьки вспыхивают слезы.
Я знаю, что он меня любит, и это любовь очень сложная и резкая на поворотах. Он — подросток, и характер у него никогда не был сахарным. Он такие веселые ночки нам с Германом устраивал, что мы оба худели.
— И я тебя люблю, Боря, — говорю спокойно, а в груди сердце и легкие перемололи в фарш. — И буду любить. Увы. Ты влип, Борька.
Раздувает ноздри, поджимает губы. Он тоже сейчас может взорваться злыми и отчаянными слезами.
— Ничего, — пожимаю плечами. — Поживешь с отцом и, я так понимаю, с Дианой. Все это знакомство было же не просто так, да?
— Как начну называть ее мамой…
Тут я уже смеюсь.
— Пожалей ты эту ромашку, — хмыкаю.
— А если я с ней подружусь, а?
— Дружи, — серьезно отвечаю я. — И она по возрасту к тебе ближе, чем я. Может, будете ты, папа и Диана вместе рубиться в игры.
Картинка того, как моему сыну весело с отцом и “мачехой”, в голове вырисовывается слишком четкая. По сердцу пробегают острые коготки ревности.
В комнату заходит Афинка. Держит в ручках игрушечную чашечку и блюдце. Смотрит на меня с детским вызовом. Ставит блюдце и чашечку у моих ног и деловито уходит, встряхнув волосами.
Недоуменно переглядываюсь с Борей, который вздыхает и кидает джинсы на кровать:
— Тебя пригласили на чай, если ты не поняла.
— Да, не поняла.
— Вот я тебе расшифровал, — вновь шагает к шкафу, — иди. Я тут сам справлюсь.
— Самостоятельный, — улыбаюсь я. — А ведь еще недавно я тебе подгузники меняла.
Борька медленно разворачивается ко мне. Моргает и молчанием намекает, что я переборщила. И я согласна.
— Ладно, — наклоняюсь и подхватываю пластиковые блюдце и чашечку. — Сказала лишка. Признаю.
Глава 22. Чайная церемония
Захожу в детскую Афинки.
Посреди комнаты низкий круглый столик. За ним на стульчиках рассажены куклы. По правую сторону от них на полу по-турецки сидит Герман с игрушечными чашечкой и блюдцем в руках. Напротив него — деловая выбражуля Афинка, которая, оттопырив мизинчик, подносит чашку к губым.
Где она научилась оттопыренному мизинцу? Я такому точно не учила. Смотрю на Германа и вздыхаю.
Он тоже оттопырил мизинец. Ну, теперь все ясно.
Прохожу к столику и опускаюсь на белый ковер с толстым, густым и мягким ворсом.
— Папа, налей маме чай, — с наигранной строгостью и высокомерием говорит Афина.
— Да, миледи, — ласково отвечает Герман.
Отставляет свою чашечку на блюдце и подхватывает игрушечный чайник. Смотрю на Германа и медленно моргаю, намекая свои усталым выражением лица, что я сдаюсь.
По крайней мере, на сегодня я принимаю поражение.
— У нас тут жасминовый чай, — невозмутимо вещает Герман и подносит пустой чайник к моей чашечке. — Волосами единорога.
Несколько секунд недоуменного молчания, и я спрашиваю:
— Что?
— С волосами единорога, — Герман наклоняет чайник и поднимает взгляд, от которого у меня сердце ухает куда-то в кишки. — Мне сказали, что волосы единорога сладкие.
— Да, — серьезно кивает Афинка. — Они вместо сахара.
Мой зрительный контакт с черными глазами Германа слишком затягивается. Руки слабеют.
Я выдыхаю, сглатываю и моргаю, чтобы затем перевести взгляд на Афинку, которая причмокивает в игрушечную чашечку:
— Вкусный чай.
Моя маленькая крошка.
Игры в кукол с отцом не должны быть для нее событием или праздником, как сейчас. Сладкая моя булочка.
Сердце пронизывает острая нить сожаления, что у нас в семье случилось вот так.
— Продегуйстируйте, мадам, чай с единорожьими волосами, — Герман отставляет чайник. — Заварен по особу рецепту, — подмигивает Афинке, которая смущенно хихикает в чашечку и довольно щурится.
А после кокетливо протягивает чашечку:
— Еще.
— Конечно, миледи.
Если я