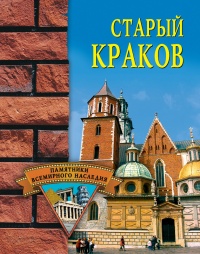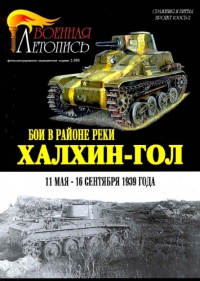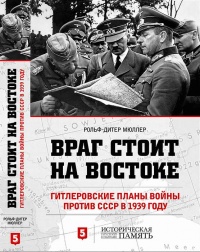Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 52
Густав сел в центре длинного обеденного стола. В Бухенвальде его, как большинство заключенных, побрили наголо. Но сейчас волосы у него отросли почти до плеч, и меня шокировал их цвет, ярко-рыжий. Рядом с ним сидела мадам Минк, предложившая устроить такой открытый суд, а с другой стороны какой-то человек из OSE, которого я раньше не видел.
Мадам Минк открыла процесс, заговорив о Януше Корчаке, польском еврее, детском писателе и философе, который печатался под именем Генрик Гольдшмит. Многие поляки в комнате, включая Салека, закивали. Салек наклонился к нам и сказал, что этого человека еще называли пан Доктор или мистер Доктор. Пан Доктор вел на радио программу и отстаивал права детей. Он выступал против телесных наказаний, широко распространенных в польских семьях, сообщил Салек. Мадам Минк рассказывала, что, по мнению пана Доктора, дети правильно развиваются, когда могут свободно играть и выражать свои чувства, когда их принимают всерьез, поддерживают и любят. Он основал детский дом в варшавском гетто. И хотя пан Доктор мог попросить убежища, он остался с детьми, когда их одними из первых эсэсовцы схватили и отправили на смерть в Аушвиц-Биркенау. Эту часть истории я знал от Якова. Он говорил, что, по слухам, эти дети шли к железнодорожному вокзалу в своей лучшей одежде и с голубыми рюкзаками, в которых лежали их любимые игрушки или книги. Пан Доктор сказал им, что они уезжают из страны и будут очень счастливы, хотя и знал, что их ожидает. До последней минуты, до самой газовой камеры, пан Доктор веселил их и смешил. Мадам Минк объяснила, что идея процесса над Густавом основана на философии пана Доктора – нам дают свободу, чтобы мы сами решили, какова была его роль в Бухенвальде и стоит ли оставлять его у нас.
Процесс, или трибунал, как его назвали некоторые мальчики, следовало вести в определенном порядке, поэтому один из старших поляков возглавил прения с нашей стороны, а один из Интеллектуалов – оппозицию. Его сторона, назовем ее обвинением, выступила первой, подчеркнув, что в Бухенвальде, когда у заключенных появлялись дополнительные одеяла, перчатки, продукты, посылки из Красного Креста, носки и ботинки, Густав отдавал их польским детям, даже если детям из других стран они были нужнее. Густав выгонял детей других национальностей из очереди за едой, чтобы поляки получили ее первыми. Интеллектуалы напирали на то, что работа Густава в Бухенвальде, где он занимался защитой заключенных, состояла в убийстве тех, кто сотрудничал с нацистами, входил в еврейскую полицию или охрану гетто, либо жестоко обращался с другими евреями. После того, как первый мальчик высказался, остальные добавили свои показания, а один даже рассказал, что присутствовал при таком убийстве – человека задушили подушкой.
Густав, который все это время сидел, опустив голову и глядя вниз, лишь пожал плечами.
Польская сторона отстаивала Густава, говоря, что он помог организовать школы в детских бараках лагерей. Благодаря ему еврейские каменщики приходили учить детей народным песням, рассказывали им истории, по мере возможности преподавали математику и чтение.
– Ты снова научил меня мечтать, когда все мои мечты превратились в кошмары, – сказал один из мальчиков.
– Я хотел броситься на электрический забор, как те люди, которых я видел, но ты заставил меня передумать, – сказал другой.
Защита говорила о том, как Густав и его подполье рисковали жизнями, чтобы спасти нас.
Потом был перерыв на обед. Столы расставили по местам. Интеллектуалы и их сторонники сели есть, с одной стороны, польские мальчики – с другой.
В душе у меня царил сумбур; с одной стороны, меня очень огорчало то, что Густав убил столько людей. Но с другой стороны, хоть он действительно убивал, спас он еще больше. Кроме того, он стал мне ближе, чем весь остальной персонал. Может, причина заключалась в том, что он прошел с нами через этот ад. Хоть я и не знал Густава в Бухенвальде, он напоминал мне Якова и Большого Вилли. Когда он был рядом, я чувствовал себя в безопасности.
Вечерняя часть трибунала началась с философской дискуссии, на которой обсуждались вопросы вроде «где проходит граница, которую никто не должен пересекать, если хочет остаться человеком?».
Наконец Густав получил слово и рассказал, как после прибытия поездов он со своими людьми подходил к заключенным и спрашивал, кто из их окружения сотрудничал с нацистами. Сначала их сторонились, поскольку все мы привыкли никому не доверять. Но постепенно правда выходила наружу, и подполье узнавало о ней. Густав сообщил, что в лагере проводились такие же процессы, как наш трибунал. Пособников нацистов разоблачали ради продолжения деятельности подполья, которое спасало заключенных, в том числе нас, детей. И даже после вынесения приговора – а обычно это была смерть – его никогда не приводили в исполнение сразу же. Несколько дней всегда оставляли на случай, если вдруг появятся новые свидетельства в пользу приговоренного.
– Мы никогда не убивали ради убийства, – громко произнес Густав. Его голос эхом разнесся по просторной столовой.
Он уселся назад за стол, весь подобравшись, и продолжил свой рассказ: одному человеку, доктору, даже сохранили жизнь, хотя его преступления против еврейского народа были поистине ужасными. В его городе в синагоге проходили карантин пятьсот евреев. Эсэсовцы попросили доктора проверить, все ли они достаточно здоровы, чтобы работать. Доктор ответил, что они все больны. Всех в синагоге расстреляли. Доктор участвовал и в других убийствах. Он оказался в Бухенвальде вместе со своими детьми, и предводитель подполья сказал: «Дети вырастут без него, потому что он убийца и не должен выйти отсюда живым».
Однако медсестры из Красного Креста покинули Бухенвальд, а заключенным требовалась медицинская помощь. Доктора оставили в живых, чтобы он помогал другим.
– Наши решения всегда были направлены на то, чтобы защитить лагерь, защитить людей, защитить невиновных, – сказал Густав.
К концу трибунала, когда часы в холле пробили полночь, напряжение в комнате ослабело, как и нещадно дувший весь день ветер. Однажды я спросил папу, у которого так и не нашлось ответа, почему, даже если днем было ветрено, с приходом ночи все успокаивается. Точно так же сейчас успокоились и мы. Никто не хотел больше мстить Густаву. Интеллектуалы просто попросили его покинуть Экуи. Они не хотели видеть его, не хотели, чтобы он напоминал им о лагере.
Это указывало на еще одно большое различие между нами. Среди нас были те, кто нуждался в воспоминаниях о тюрьме, потому что свобода несла с собой, по крайней мере для меня, ощущение постоянной тревоги. Казалось бы, я должен был чувствовать себя в безопасности, но, столько прожив на острие бритвы, я привык балансировать и стараться не упасть. Новая жизнь, которую Интеллектуалы каким-то образом быстро научились вести, пугала меня больше, чем лагеря. Ужасы лагерей были мне хорошо знакомы. А незнакомое казалось пучиной, из которой мне не выбраться.
Когда мы, польские мальчики, следующим утром вместе отправились провожать Густава на станцию, я, как обычно, немного отстал и шел, размышляя, почему вечно чувствую себя таким одиноким и напуганным, ведь мой кошмар закончился и меня окружают сотни таких же детей. Я прошел долиной смерти и выбрался на другую сторону. Но по пути словно лишился чего-то, какого-то сокровища, которое необходимо вернуть, прежде чем я смогу выйти на свет.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 52