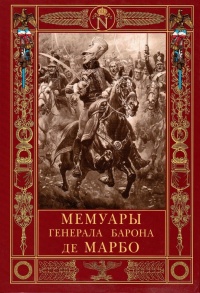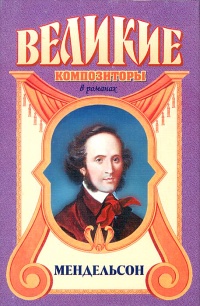собирал разбежавшееся в испуге стадо и, право, мог бы заглушить выстрелы самых больших пушек королевских войск. По вечерам Леомон твердил наизусть псалмы, и как-то раз вечером, когда он, забывшись, запел во все горло, я упал, оглушенный, на землю.
От Лозера до Бужеса его называли Горластый, признался он мне. Голос его был под стать дивному зрелищу, открывавшемуся перед нами: на закате в сиянии небесного зарева мы созерцали скопище гор и холмов, зубчатые иль округлые вершины, гранитные взлобья и склоны, коих ни королевские драгуны, ни солдаты городского ополчения не, могли сокрушить, осквернить или хотя бы смутить их покой; от Виварэ до Згуаля, от Межана до Гардонанка теснились скалистые хребты и ущелья, склоны, украшенные на радость горцам каштановыми рощами и сосновыми лесами, цветущими лугами; но все вершины тут голые, суровые — каменные макушки древних потухших вулканов, облысевшие кручи, отшлифованные ледниками; впереди всех стоит будто певчий в храме, старый Бужес, кругом же, между плоскогорьем Косс и рекою Роной, сгрудились, словно прихожане, бесчисленные скалы; и дали представали перед нами от северных взгорий до соляных озер и морских лиманов, и над волнистыми просторами, над вершинами холмов разносился громовой голос Горластого, собиравший воедино разбежавшиеся по небу звезды.
А как он умел слушать, сей пастух, уставший от постоянного безмолвия. Никогда не надоедало ему внимать мне, и я рассказывал ему о своем ученьи у матери, у Писца, о спорах между моим крестным Поплатятся и стариком Спасигосподи, о жизни Агриппы д’Обинье, — передавая о нем все, что слышал на посиделках; стихи Агриппы порождали у чабана глубокое волнение, о чем свидетельствовал свирепый взгляд его запавших глаз.
Вы, преследующие мечом наследство мое,
Вас постигнет кара за преступления ваши,
Ибо я поражу вас слепотой неизбывной,
Казнями египетскими и огнем небесным.
И он требовал, чтобы я перечислял все до единой «казни египетские», которыми бог поразил фараона: реки, текущие кровью, нашествие лягушек, тучи зловредных мошек, моровая язва и нарывы, град, тьма, саранча, смерть первенцев у людей и у скота.
Впрочем, Горластый сообщил мне тогда, что Реверса, злой кюре Фрютжьерской церкви, охотно ел лягушек и требовал, чтобы ему готовили их по пятницам в качестве постного кушанья. Пришлось мне рассказать о нашествии жаб и лягушек, вышедших из ручьев и прудов, вторгшихся в дома людей и во дворцы, облепивших и рабов и свободных, напавших на землю Египетскую в столь великом множестве, что вся страна была наводнена ими.
На следующий день я застал пастуха у речки Гурдузы за важным делом: он заклинал двух жаб, сидевших на берегу, собрать все их лягушачье племя и напасть на Фрютжьерский приход.
* * *
Осенью, в тот год, как мне исполнилось двенадцать лет, замелькали первые хлопья снега, указывая, что пришла пора гнать скот обратно в хлева Мамежана. И вот собрались мы спуститься к людям, но накануне меня, помнится, вновь взяло сомнение, — то нападал на меня страх, то охватывала радость, и я не мог решить, какое же из сих чувств внушено мне господом, а какое — дьяволом. В последний вечер показал я Горластому с любимой нашей вершины, что Севенны, раскинувшиеся внизу, вдруг стали багрово-красного цвета, а он мне на то сказал, что, стало быть, завтра будет сильный ветер; но я раскрыл ему иное значение зрелища: перед нами Севенны, обагренные кровью, кровь нашей страны льется по всем долинам, и распятые горы призывают нас…
Фельжероли в селении Булад, к которым привел меня мой пастух, подобно многим семействам нашего края, изведали великие страдания от огня Ваала и Иезавели: двух старших сыновей сослали на каторгу, одного — в Сен-Мало, и он греб, прикованный к борту галеры «Вдовствующая Королева», а второго угнали куда-то на галере «Ее Величество»; старшая дочь Анна-Жан томилась в Сомьерском монастыре, заточенная туда по приказу Эспри Флешье, епископа Нимского. Зато в доме прибыло много родных — тетка, племянники и племянницы, ибо брат Фельжероля, проживавший в Обаре, был заживо колесован в Менде, и приговор гласил: «во искупление вины казненного память о нем должна навеки угаснуть{20}, имущество же его подлежит конфискации и поступит в королевскую казну, за вычетом из суммы стоимости его судебных проторей, по ходатайству аббата де Шайла, рвением коего суд совершился…» И другие дядья, племянники и двоюродные братья Фельжеролей тоже были убиты, брошены в темницы, сосланы или прикованы к галерам, так что вся родня Фельжеролей из Финьеля, Виларе и даже Пендеди, близ Алеса, — все, кто еще уцелел, собрались теперь у одного-единственного очага.
В притихшем этом гостеприимном доме Исайя Фельжероль из Обаре стоял бывало дозорным на крыше, а старший в роду Этьен, коему шел сороковой год, доставал из тайника Библию, и под завывания ветра, ударявшего в глухую северную стену дома{21}, Фельжероли в чистоте сердца воссылали хвалу милосердному господу.
Однажды в студеный вечер постучался в окно путник, — то был сын Клода Агюлона, мэра селения Русс, Антуан, доверенное лицо гугенота барона Сальга{22}; он пришел сообщить Фельжеролям, что ночью на Бузеде созывается молитвенное собрание, и принес им пропускные бирки. Прежде чем дать и мне бирку, он спросил мое имя. До тех пор я ничего не знал о своих родных, Фельжероли скрывали от меня, какие слухи ходили в нашем краю от Виала до Пон-де-Мопвера. Доверенный барона Сальга своими глазами читал судебные протоколы и теперь сообщил мне достоверные сведения: старшего моего брата Теодора насильно взяли в Орлеанский драгунский полк, намереваясь послать для королевской службы на границу; младшего брата Эли, когда он вез дрова из лесу, схватили и хотели тащить на допрос, но он топором зарубил драгуна и солдата-ополченца, а на следующий день на него устроили облаву и убили его; отца судили в суде по