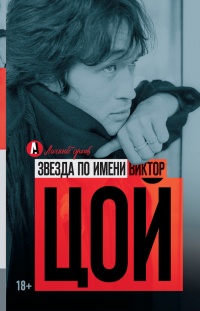Никитичу.
— Когда ты приехал? — спросил он.
— Мы приехали сегодня днём, — смущённо ответил Дивинский.
— Кто?
— Я, генерал Михаил Иваныч, да Сумарокова привезли.
Григорий Дмитриевич нахмурился.
— Генерал привёз подлинные кондиции, — продолжал Дивинский, — а Сумарокова захватили под Митавой.
Дивинский подробно рассказал о всём происшедшем в Митаве, о допросе Сумарокова, который признался, что его отправил в Митаву граф Павел Иваныч, дабы прежде всех оповестить императрицу об её избрани и действиях Верховного Совета. Василь Лукич и распорядился после допроса отправить его в Москву, в Верховный Совет. Кроме того, по-видимому, был от кого‑то ещё гонец. Но его не успели поймать, и Василь Лукич писал произвести о сём строжайшее расследование. А сейчас Дмитрий Михайлыч приглашал князя Григория Дмитриевича приехать к нему. В ночь будут допрашивать Сумарокова и обсуждать, что делать.
Князь Григорий Дмитриевич молча выслушал Дивинского.
— Так подлинные кондиции здесь? — спросил он.
— Генерал передал их Дмитрию Михайлычу, — ответил Дивинский.
— Ну, слава Богу, — поднимаясь во весь рост, произнёс Юсупов. — Пора! А Ягужинский!.. Ну, что, с ним мы теперь справимся! — закончил он, и его лицо приняло жестокое, страшное выражение. Глаза загорелись, широкие ноздри раздулись.
— Не время щадить врагов, — снова начал он. — Их много, ой как много!.. Дадим же им кровавый урок! Вспомним Петра Алексеевича. Тот никого не пощадил бы для блага отечества!
Князь тяжёлой поступью заходил по комнате, изредка останавливаясь, чтобы выпить бокал вина, до которого был великий охотник. Глядя на его грозное лицо, Дивинский не смел нарушить молчания. Но вдруг лицо князя просветлело и сразу стало добрым и ласковым.
— А ты, ферлакур, что здесь напевал Паше[41]? — спросил он, останавливаясь перед Дивинским и глядя на него смеющимися глазами.
Несмотря на ласковый тон его слов, Дивинский оробел.
— Князь, — дрожащим голосом начал он. — В последний год вы заменили мне отца… Я вечно благодарен вам, я бы… я… хотел бы стать вашим сыном…
Он взволнованно замолчал. Князь уже не смеялся. Он серьёзно и задумчиво смотрел на стоящего перед ним с опущенными глазами Фёдора Никитича.
— Да, — медленно начал он. — Я давно видел, что слюбились вы. Я видел это, может, раньше, чем вы сами про то узнали. И по тому как я относился к тебе, ты должен понять, что не я помешаю вашему счастью.
Дивинский сделал к нему движение.
— Постой, — остановил его князь. — Ты честный и смелый офицер и дворянин… Я готов назвать тебя своим сыном. Но, говорю тебе, повремени! Смутно теперь, и болит моё сердце. Рано торжествовать ещё победу. Подожди, и когда мы отпразднуем победу, — Паша твоя! Вот тебе рука моя.
Дивинский крепко пожал протянутую руку. Князь обнял его и поцеловал.
— Ты хороший офицер. Исполни же до конца свой долг. Ну, теперь иди, отдыхай. Отдохну к я часок, а там пойду к Дмитрию Михайлычу. Ты ночуй у меня.
Это был счастливейший день в жизни Фёдора Никитича.
V
Был ранний час, и на улице ещё царила тьма. Просторный кабинет Ягужинского был ярко освещён многочисленными свечами. За столом сидел Кротков и разбирая бумаги.
Накануне, поздно вечером, из Верховного Совета была получена повестка, приглашавшая графа Павла Ивановича к девяти часам утра в большой кремлёвский дворец на собрание. Какое собрание — в повестке не было указано. На всякий случай Семён Петрович, всегда аккуратный, подобрал бумаги, касавшиеся последних распоряжений, отданных Верховным Советом графу. Верховный Совет возложил на Ягужинского предварительные подготовления к предстоящему погребению покойного императора, заготовку траурных карет, устройство гробницы, выработку в общих чертах церемониала погребения соответственно бывшим «прискорбным оказиям» и другие столь же несложные, но хлопотливые дела.
Кротков составил уже небольшую записку о мерах, принятых графом к исполнению поручений совета. Он делал своё дело механически, по привычке, и на его худощавом, спокойном лице нельзя было прочесть тревоги, пожиравшей его душу. Едва ли у Ягужинского был более преданный человек, чем Кротков. И это было понятно. Семён Петрович был всем обязан Павлу Ивановичу. И не только он, но и его отец, и его дед.
Старый органист московской лютеранской церкви, отец Павла Ивановича, принял участие в судьбе своего соседа, такого же бедняка, каким был сам дед Семёна Петровича. По мере сил помогал ему, бедному «ярыжке» Судного приказа (это было во времена правительницы Софии), и, когда этот «ярыжка» умер, взял к себе на воспитание его единственного сына Петрушу. Петруша провёл своё раннее детство вместе с нынешним графом. Но судьба рано разделила их. Талантливый и живой Павел случайно привлёк к себе внимание царя Петра Алексеевича, когда в то время ещё юный царь посетил кирку и заговорил с не по летам развитым сыном бедного органиста.
С тех пор Павел Иванович стал быстро подниматься в гору, между тем как Пётр Кротков поступил писцом в тот же Судный приказ.
Шли годы. Умер старый органист. Преждевременно умер от запоя и Пётр Кротков, оставив юного сына Семёна. Это было в конце царствования Екатерины.
Когда юный Семён, помня и зная от отца о всех благодеяниях, оказанных их семье старым Ягужинским, с трепетом явился в приёмную графа, генерал-адъютанта и камергера Павла Ивановича, он встретил и участие и ласку. В память своего отца, в память детской дружбы с отцом Семёна Ягужинский тотчас же устроил его в Сенат, а заметя трудолюбие, способности и скромность молодого писца, взял его к себе в секретари. Семён Петрович платил ему за всё самой горячей признательностью. И теперь, разбирая бумаги, он болел сердцем за своего благодетеля. Он видел тревогу графа и знал её причину. Он сам помогал Павлу Ивановичу писать письмо к герцогине Курляндский, знал о посылке Сумарокова и об его аресте. И повестка Верховного Совета казалась ему зловещей. Теперь он ждал выхода графа.
Но кроме него в кабинете присутствовали ещё двое. Это были Окунев и Чаплыгин — адъютанты Ягужинского, которые должны были сопровождать его в Совет. В полной парадной форме, в напудренных париках, офицеры нетерпеливо ходили взад и вперёд по кабинету. У них был вид людей, идущих на сражение. И действительно, они после последних известий были готовы ко всему.
Кротков молча сидел, уткнувшись в бумаги. Чаплыгин не выдержал.
— Семён Петрович, — крикнул он. — Да брось к дьяволу свои бумаги. Бросил бы