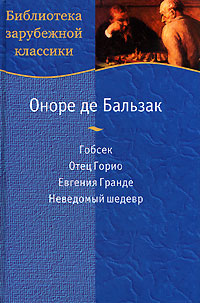съездить в райцентр — за сапогами и бензопилой.
В избе так было накурено, что начали слезиться глаза. Федор Матвеевич пачку «Севера» отбросил на пол подальше — теперь не дотянуться до нее. Но опять в голову пришли тревожные думы, и он не удержался, слез с кровати, нашарил пачку, достал еще папиросу. Покурил сидя, неторопливо пристегнул деревяшку к отнятой выше колена левой ноге. Оделся, повесил на дверь замок, ключ сунул под камень: Зина найдет.
Пока Федор Матвеевич запрягал лошадь, выезжал за ворота, совсем забрезжило. Будто светлым дымом подернулось небо, отчего луна и звезды потускнели, и сделалось до жути холодно.
Оберегая тепло, Федор Матвеевич не шевелился, глядел на спину лошади; не заметил, как добрался до развилки, где нужно было решить, по какой из двух дорог ехать, хотя обе они вели в Судислово, в Егорово село. Лошадь сама взяла влево — в лесу меньше ветра.
Темно в нем. Слышно, как потрескивает первый ледок, поскрипывают вчера еще мокрые, врасплох застигнутые морозом деревья. Набежит сверху ветер, и с них стеклянное крошево сыплется, медленно опадает вниз.
Вдруг в чащобе, пахнущей прелью, перемешались все лесные звуки, и возникла тихая, до боли знакомая мелодия. Федор Матвеевич сдвинул на затылок шапку, вспомнил слова, подхватил:
Ты меня ждешь…
В молодости, на фронте, пел он эту песню под гитару, до того похожий лицом и голосом на артиста, которого видел и слышал в кинокартине, что его чуть с передовой не сняли, чтобы отправить в полковую самодеятельность. Не успели — ранило его в бою.
Лес поредел, открылась белая, в инее, опушка. Вон уже село виднеется, кое-где с труб слетает дымок. В окнах Егоровой избы, третьей с краю, света нет.
Подъехав близко, в душе ругая Егора — ждать должен, — Федор Матвеевич громко позвал:
— Я-а-гор! А, Ягор!..
— Вижу, иду! — откликнулся из-за угла Егор. — Подмогни, Матвеич…
Матвеич недовольно вздохнул — не сообразил Егор подтащить мешок к воротам, — однако молча сошел с телеги, увязая деревяшкой в мерзлой грязи, двинулся помогать. У Егора тоже деревяшка, тоже цеплялась, и ковыляли они с мешком трудно. Поехали. Уже за селом отдышался Егор, спросил:
— Зятек-то не прибыл?
— Застряли чего-то. Дорога, видать, забита.
— Приедут, никуда не денутся, — заверил Егор. — Смотрю, ты всего один мешок набил…
— А куда два-то? Лошадь не потянет. На базаре еще с ними торчать, людям глаза мозолить.
— А что тут такого? — воскликнул Егор. — Своя же картошка! Хочу — продаю. Нам со старухой ее девать некуда. Пропадет она. Не корысти ради… Мне пенсии хватает. А на базар с пустыми руками… — Егор вдруг схватился за грудь, закашлялся. — Воздух-то Нынче какой. Дых перешибает, голову кружит…
— А я, башка дырявая, настоечки бутылку забыл, — проговорил Матвеич. — Спробовать с тобой хотел. Вишневая…
— Лучше бы и не вспоминал… Хороша все-таки погодка!
Небо уже очистилось от серой дымки, сделалось сизым, прозрачным; по обе стороны простерлись синие от изморози поля. Впереди виднелся густой лес — отсекал небо от земли.
Лошадь пошла быстрее. Егор повеселел, крутил головой, смотрел на серебристые стога соломы, на легкие, будто из дыма, березовые перелески.
— Гармонь бы сейчас! — вздохнул он.
— Ишь ты, молодой! — хмыкнул Матвеич.
Из-за леса поднялось непомерно большое солнце, озарило холодным светом оцепенелые просторы. Все вокруг засверкало, переменилось.
Веселые, чуть обожженные морозным ветерком, Матвеич и Егор въехали в городок. Звонко прогромыхали по асфальту, по булыжнику, и вот он, базар; гудят на нем одним забором отгороженные от глаз колхозный рынок и «толкучка». На рынке особой бойкости не чувствуется, зато рядом, над «толкучкой», даже воздух как бы накален, взбудоражен.
Видел Матвеич, как у Егора начинает подергиваться щека, губы складываются для разгульного свиста; он знал эту слабость Егора — привлечь к себе внимание хотя бы пустячным удальством, чем угодно потешить людей.
В новом полушубке, в лихо сидящей на голове линялой кроличьей шапке, Егор высматривал место, где удобнее остановиться. Но Матвеич дернул его за рукав, показал на пустырь слева от ворот, и Егор понял, что дальше, на самый рынок, подвода не попадет. Быстро смирился, слез с телеги, отвел лошадь к забору.
Сволокли мешки.
Матвеич первым двинулся к рядам — к лысому мужику с мешком точно такой же, как и у них, картошки.
— Почем? — спросил Матвеич.
— Рубль ведро, — ответил тот, глядя мимо.
— А в мешке сколько будет?
— Шесть ведер…
— За всю сколько берешь?
— Считать, что ли, не можешь? — обиженно протянул мужик. — Прошу шесть, отдаю за пять…
— Понятно, — проговорил Матвеич.
Вернулся к Егору, который, приплясывая на одной ноге, зазывал прохожую женщину:
— Налетай — подешевело!..
— Там за пять отдают, — сказал Матвеич. — Давай за четыре сбагрим свою…
— Алкоголик небось, — предположил Егор. — Похмелиться небось торопится!
— Давай за четыре, — уговаривал Матвеич. — Чего стоять-то? Не привык я, ей-богу…
Егор укоризненно покосился на Матвеича, продолжал:
— Эй, дамочка нарядная, забирай даром!..
«Дамочка» в ответ лишь снисходительно улыбнулась. Зато шедшая следом пожилая женщина прибавила шаг, направляясь к ним.
— Картошка-то больно хорошая, — оценила она, взяв картофелину, подержала в широкой ладони.
— Яблока вкуснее! — похвалил Егор.
— Четыре рубля, — поспешно сказал Матвеич.
— Шутите, никак? — ласково улыбаясь, сказала женщина.
— Истинная правда, — проговорил Матвеич. — Стоять неохота…
— А довезете? Тут недалеко.
— За доставку полагается, — недовольно проворчал Егор, но осекся от тычка — Матвеич начал сердиться.
— Дам, дам, не обижу… — успокоила женщина.
Уложив мешки, молча ехали до тихого чистенького переулка; подкатили к дому с голубыми резными наличниками.
Через ворота, тоже резные, крашенные охрой, понесли мешок, высыпали картошку на пол в сенцах, сходили за вторым. Стояли потом посреди двора, не глядя друг на друга, безмолвно ждали, пока женщина принесет деньги.
Она вышла, подала по четыре рубля каждому, а рубль за доставку протянула Егору отдельно.
Егор взглянул на Матвеича, понял: не простит он ему жадности; осторожно отвел от себя руку женщины, тихо проговорил:
— Не надо, пошутил я…
— Какие шутки… Картошка-то отборная, — оторопев, сказала женщина, пытаясь вложить рубль Егору в карман.
Егор увернулся, двинулся к подводе, обернулся у ворот: облегченно, радостно махнул рукой:
— До свиданьица… Шутник я.
Влез в телегу, взял вожжи; заметив, что Матвеич сел спиной к нему, сник и всю дорогу до базара ехал с видом провинившегося пацана.
Перед въездом остановились, прислушались к людскому гомону, который, ни на минуту не стихая, перекатывался над рядами.
Матвеич зашевелился, достал папиросы, мягко ткнул пачкой в плечо Егора. Оба закурили, встретились глазами. Егор задохнулся дымом, откашлялся, сказал хрипло:
— Сапог, боюсь, нет…
— Да шут с ними, — успокоил его Матвеич, выпростал из сена сапог, добавил: — В этих проходим. Нечего суетиться…