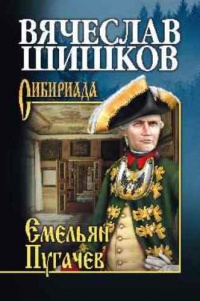Гонец из столицы скакал быстро. Уже через неделю Бибиков получил от Екатерины рескрипт и личное письмо. А три дня спустя, то есть 30 января, он собрал дворян, живших в Казани и окрестностях, для объявления им высочайших словоизлияний.
Дворяне, заранее ознакомленные с содержанием рескрипта, в эти три дня успели к торжественному собранию подготовиться. Предводитель дворянства Макаров позвал к себе в гости возвратившегося из Самары Державина и попросил его составить ответную от имени дворянства речь, к императрице обращенную.
— Я осведомлен, молодой человек, от вашей достопочтенной родительницы, — сказал он, — что вы искусны в пиитических опусах, а также с отменным изяществом излагаете свои мысли на бумаге.
Державин, отдавая поклоны, сначала отказывался, краснел, наконец согласился. Удалясь в кабинет хозяина, куда были поданы ему для вдохновения графин смородинной наливки и закуска, он довольно быстро набросал нужную речь и затем, сияющий, вдохновенный, приподняв плюшевую портьеру, вернулся в зал.
— Готово, ваше превосходительство! — воскликнул он, прищелкнув по бумаге перстнем. — Разрешите огласить?
— Стойте, стойте… — вымолвил задремавший в кресле хозяин. — Сейчас, душенька, своих скличу, — и приказал позвать жену и четверых ребятишек.
Явившиеся уселись на широкий, в парчовой обивке, диван. Маленькая Верочка, в бантах, удивленно открыв малиновый ротик, уставилась темными детскими глазками на великана. А тот, оправляя офицерский кушак с шелковыми кистями, нетерпеливо поглядывал на предводителя. В полукруглые, выходящие на запад окна падал солнечный холодный свет. Всюду блеск позолоты и хрусталя. В простенке — большой, писанный масляными красками, портрет императрицы во весь рост, а в противоположном простенке, от потолка до пола, богатое трюмо. Екатерина, в накинутой на плечи порфире, гляделась в зеркало и приятно самой себе улыбалась.
— В сей зале послезавтра, — сказал предводитель, сделав плавный жест пухлой барственной рукой, — генерал-аншеф Бибиков будет принимать доверившееся моему попечению дворянство. — Лицо предводителя крупное, овальной формы, одутловатое, нос широкий, приплюснутый. — Итак, приступим, — сказал он.
Державин выставил вперед левую ногу, правую руку закинул за спину и откашлялся. И все, приготовившись слушать, тоже легонько откашлялись.
Откашлялась, подражая взрослым, и маленькая Верочка. Державин повел взором по портрету государыни, по лицам хозяев дома и стал с выражением читать мужественным басом, напрягая голос, все громче и громче.
Когда он закончил чтение речи, хозяин восторженно закричал:
— Браво! Великолепие! — Он подшаркал по скользкому паркету к Державину, обнял его и трижды чмокнул в мясистые, чисто выбритые щеки. — Ах, какой слог, какая сила и… какой благородный пафос! Златоуст!
Демосфен!
Варсонофий Перешиби-Нос, беглый екатерининский солдат, заохотился самолично взглянуть на славного мужицкого царя. Он еще по осени слышал царицыны манифесты, где говорилось, что бунт на Яике поднял какой-то беглый казак Емелька Пугачёв. Да уже не тот ли это казак Емелька, который шесть лет тому назад распоряжался совместно с ним, с Варсонофием, на войнишке в селе Большие Травы? Чем черт не шутит, пожалуй, он самый и есть! Еще ведь о ту пору казачишко поваден был озорству и дерзости.
Варсонофий подъехал к Берде поздним вечером. Сидевшие в овраге караульные мужики остановили его и, узнав, кто он, дали ему приют в землянке. За ужином, у пылавших костров, Варсонофий расспрашивал крестьян о государе: каков он из себя. Ему отвечали: «Батюшка черноволосый, крепкий, кость широкая, взгляд орлиный, а когда идёт пеш — народ едва успевает за ним вприпрыжку». — «Ну, стало он и есть», — решил Варсонофий.
Случайно повстречал он Пугачёва, с глазу на глаз, лишь на третий день. Емельян Иваныч вышел разгуляться. Был погожий вечер. Варсонофий сразу признал Пугачёва и даже улыбнулся ему по-приятельски, но вслед за тем повалился в ноги.
— Здрав будь, Емельян Иваныч!
Пугачёв с суровостью взглянул на него, негромко, но резко спросил:
— Кто таков?
— Перешиби-Нос я… Не признал?
— Стой, стой!.. Варсонофий, что ли?
— Я и есть.
— Встань. Откудова прибыл?
— Из отряда Арапова.
— Где же ты шесть, почитай, годков скрывался?
— На Иргизе, у скитских старцев время проводил, батюшка.
— Так… Добро! Прибудешь ко мне об эту пору завтра — потемну. Да чтоб на левом рукаве у тебя холстинка была. С повязкой белой пропустят. И чтоб язык твой касаемо прошлого онемел вовсе… Я царь твой. Понял?
Прощай! — и, сдвинув брови, Пугачёв ходко зашагал прочь.
…Беседа Пугачёва с Перешиби-Носом состоялась тайно, в комнате-боковушке, где когда-то принимал царь Дашеньку с Устиньей Кузнецовой.
Густые рыжеватые усы Варсонофия свисали на грудь. В широко открытых глазах его — полная покорность и пристальное, как у солдата в строю, внимание.
Они говорили, выпивали. Дверь плотно закрыта, горит на столе сальная свеча.
— За усердную службу твою, Варсонофий, спасибо тебе. Мне про тебя Илья Арапов докладал, атаман. Жалую тебя, Варсонофий, полковником своим…
— Благодарствую, батюшка, Емельян Иваныч, — ответил Перешиби-Нос и, распрямив насупленные брови, встал и поклонился Пугачёву.
— При народе меня царем зови, слышь? Царь и царь…
— Понимаем, все понимаем, батюшка.
— То-то! Будь верен мне и дела нашего по глупости своей, смотри, не сгуби… Помнишь, как мы с тобой в Больших Травах бучу подняли?
— До смертного часа не забуду, ерш те в бок!.. — оживился солдат.
— М-да… О ту пору у нас только травы были, а теперь, выходит — вековые древеса. Давай-ка, братец, вместях столбы рубить, заборы-то сами повалятся. Ась?
— Истина твоя, ваше величество, повалятся. Ежели столбы срубить — заборы рухнут! — Варсонофий покрутил усы, осторожно тронул Пугачёва за коленку. — Всю жизнь у меня, у старого солдата, в мыслях было: чем бы и как нашу мужичью судьбишку прикрасить… А вот теперича…
— В судьбу свою зашли мы, как в темный лес, — перебив его, раздумчиво откликнулся Пугачёв. — И конца-краю тому лесу не видно… — Он вздохнул, однако глаза его поблескивали упрямым непокорством. Пристукнув о стол кулаком, он, не таясь, повысил голос:
— Эх, либо в стремя ногой, либо в пень головой! Так, что ли?
— Так, так, ваше величество, Емельян Иваныч!
Наступило молчание. Над Бердой с гулом проносилась вьюга.
Поскрипывали оконные ставни. Изразцовая печь прогорала: по алой россыпи углей, подернутых седоватым пеплом, струились синие огоньки. Хозяин подбросил дров, прошелся взад-вперед и, как бы прислушиваясь к словам своим, тихо молвил: