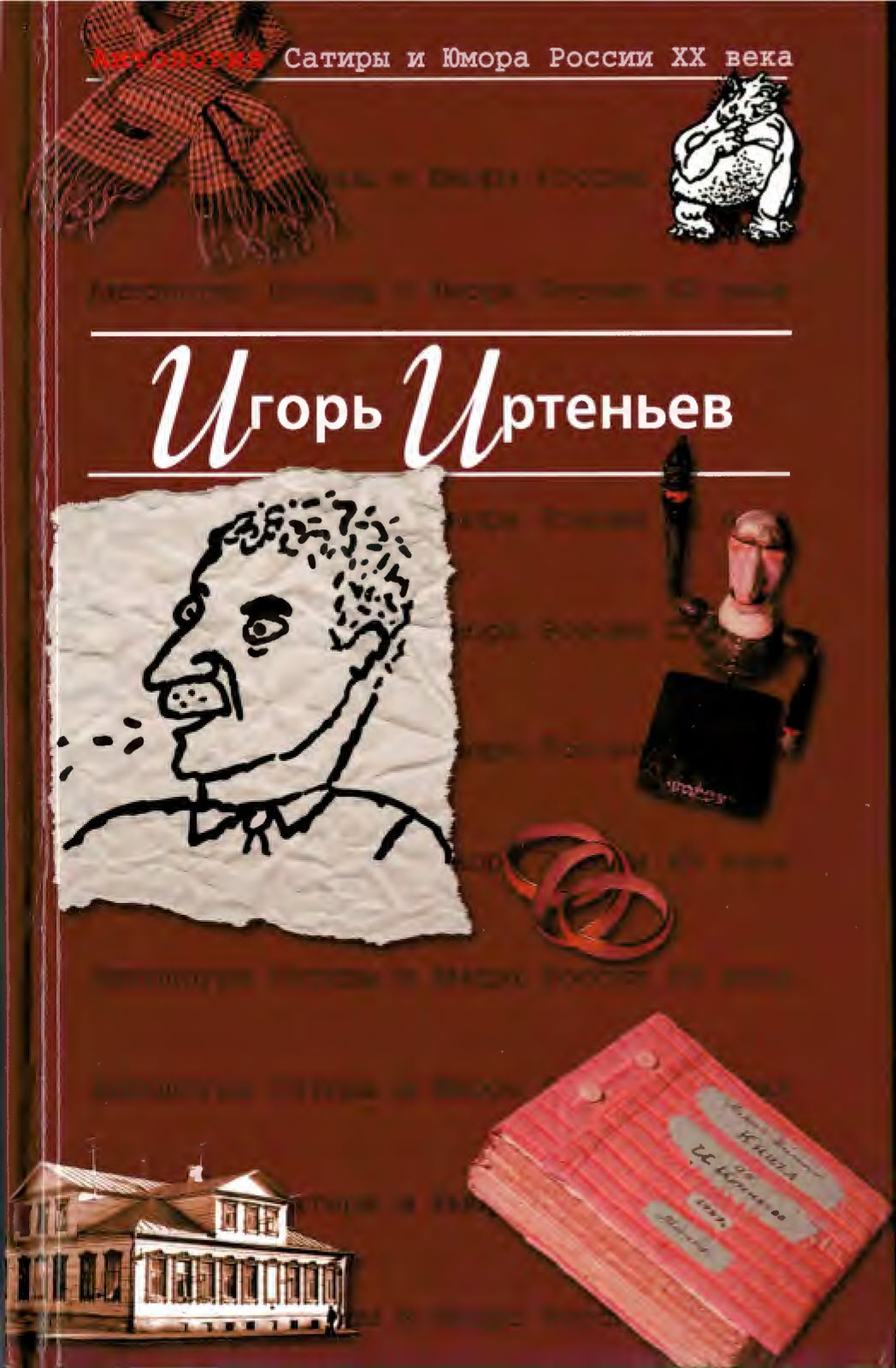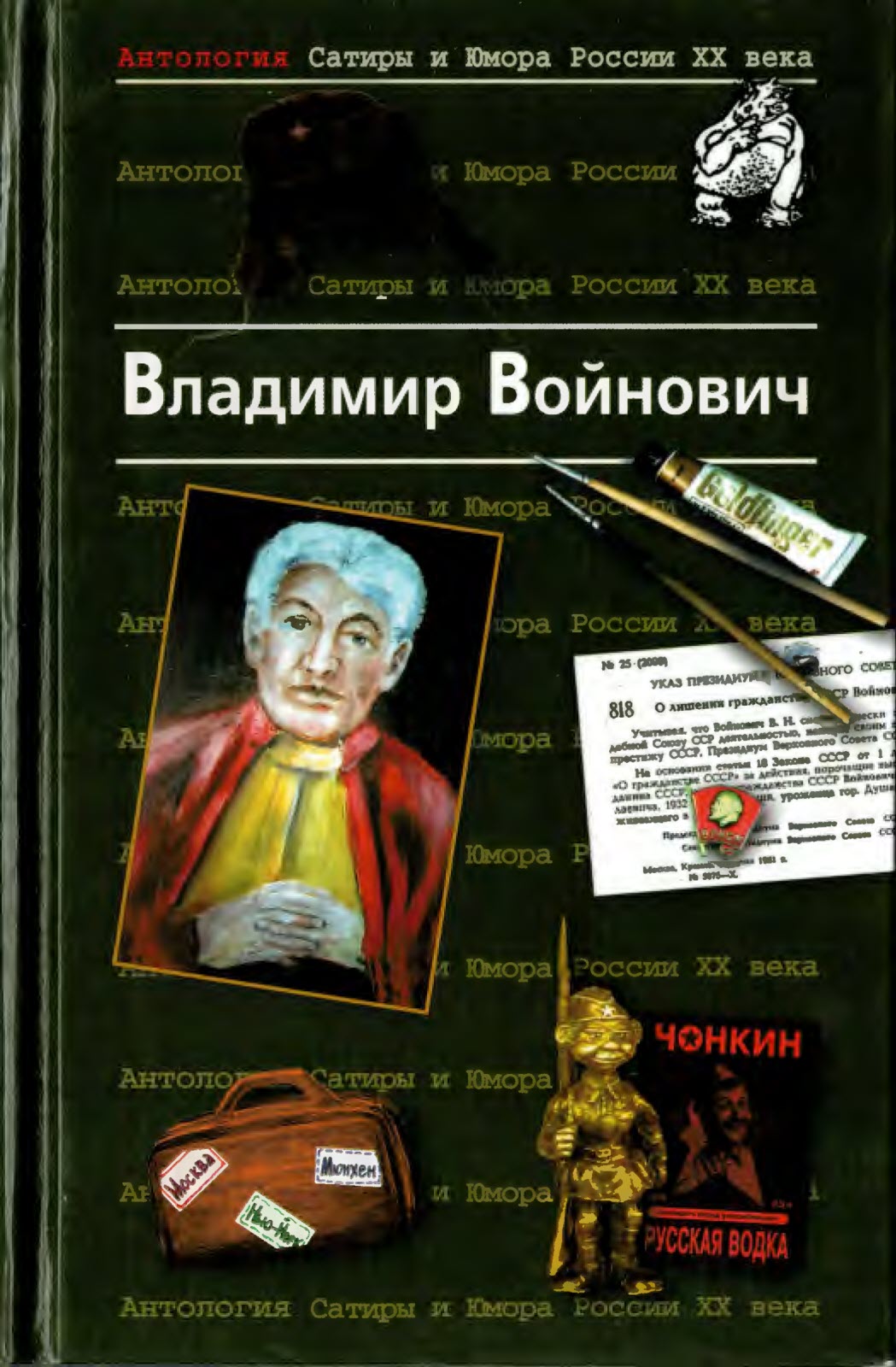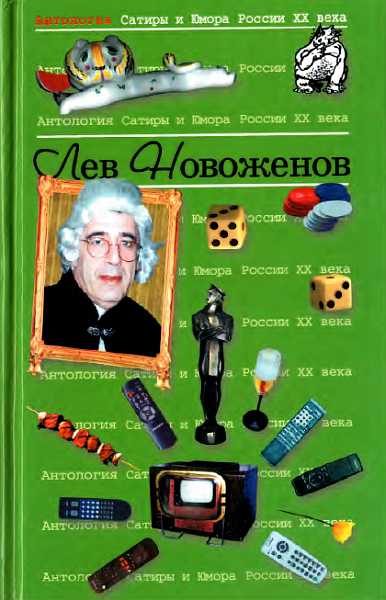другой в штатском, но все равно было сразу понятно, что он, хотя и носит штатское, — тоже солдат, может быть, даже званием пониже, чем мой сосед, но зато, безусловно, богаче. Он уже изрядно выпил и, как только мы поднялись в воздух, вытащил из узкого кармана толстую бутылку «Boll-69», содрал с нее хрустящую обертку, вынул зубами пробку и сделал большой глоток, но своим товарищам не предложил, а потом глотнул еще раза два, после чего стал заигрывать со стюардессой — высокой, как гренадер, девушкой в синей пилотке, лишенной всякого чувства юмора, чем, по моим наблюдениям, отличаются все стюардессы туристского класса на лайнерах К. Л. М.
Подвыпивший атомщик в штатском — тут мне вдруг пришла в голову мысль: не сгорела ли где-нибудь его униформа? — все никак не мог успокоиться и задремать. Видимо, его нервная система была совсем расшатана и алкоголь уже не действовал на нее как снотворное. Его все время терзала жажда деятельности. Он вызвал звонком стюардессу и сначала послал ее за глобусом, и она принесла из штурманской рубки резиновый глобус, который он надул ртом через специальный отросток и стал пьяными глазами разыскивать Северную Америку, желая определить трассу нашего полета, измерил ее пальцами, выпустил воздух из глобуса и вернул его сморщенное вялое тело стюардессе, тут же потребовав электрическую бритву, потому что компания К. Л. М. была обязана выдавать ее пассажирам туристского класса по первому требованию. Стюардесса принесла коробку с электрической бритвой, напоминавшей хорошо отшлифованный прибоем морской булыжник, и солдат в штатском быстро нашел в подлокотнике своего кресла скрытую розетку и ловко включил прибор, что показало его техническую сноровку. Он побрился и, многозначительно подмигнув, возвратил бритву стюардессе, лишенной не только чувства юмора, но также и самого элементарного секса.
Я смотрел на этих американских солдат, славных малых, и никак не мог заставить себя поверить, чтобы они могли что-нибудь наделать. В особенности вызывал теплые чувства мой сосед, положительный, уравновешенный добряк, видимо хороший мастеровой, с толстыми, но тренированными пальцами и коротко остриженной умной головой.
Третий солдат не отпечатался в моей памяти; он сидел где-то сзади и все время как бы прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору.
Я осмотрел свои мокасины и снова убедился, что они ничем не хуже остальных двухсот или двухсот пятидесяти отлично вычищенных ботинок, которые находились в первом и туристском классах самолета. Стало быть, пока все шло прекрасно. И это меня несколько успокоило, как будто бы я принял пятнадцать капель валокордина.
Но что ждет меня по ту сторону Атлантики? Где я буду чистить мои мокасины?
Я вспомнил, что в больших стандартных отелях Соединенных Штатов обуви не чистят, и опять почувствовал беспокойство. Я стал думать о континенте, к которому медленно приближался, и меня охватило предчувствие беды, не слишком большой, но достаточно неприятной, чего-то унизительного, связанного с моими мокасинами. Теперь я уже твердо знал, что где-то в Нью-Йорке давно поджидает меня человек, собирающийся причинить мне ущерб. Он хочет отнять у меня нечто очень дорогое. Жизнь? Не знаю. Может быть. И я заранее холодел, чувствуя свое бессилие и одиночество, и представлял себе, как в один прекрасный час останусь с глазу на глаз с этим не имеющим формы человеком где-то в глубине абстрактной нью-йоркской улицы, лишенной всяких реальных подробностей, к которым я имел сильное пристрастие как писатель и человек.
Боже мой, куда меня несет!
Милый пейзаж старой Англии неощутимо отодвинулся в никуда, уступив место черным, как бы обуглившимся скалам берегов Шотландии. В неподвижных водах отражалось бессолнечное алюминиевое небо. И сейчас же появились другие далекие острова — такие же скалистые, но уже называвшиеся Ирландия. Это было последнее, что я мог заметить из подробностей того мира, который я так опрометчиво покидал неизвестно зачем.
Длилось все то же самое утро, которое началось бог весть когда на туманном аэродроме, где мы стояли, как маленькие фигурки, на шестигранных плитах взлетной дорожки. Несколько раз я уже переводил часы, каждый раз теряя время, которое неизвестно каким образом пропадало навсегда.
Было еще без десяти десять того же самого утра, а наш воздушный корабль уже висел на громадной высоте над Атлантическим океаном, покрытым пеленой белых испарений, как муха над алюминиевой кастрюлей, где на медленном огне знойного солнечного утра чуть поднималась жаркая, легкая пена закипающего молока, которое все никак не могло надуться шапкой и сбежать.
Время — странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством, — это самое время казалось почти неподвижным, потому что мы и солнце двигались в одном направлении с востока на запад с вполне соизмеримой скоростью, — но солнце несколько быстрее нас. Таким образом, наше передвижение в пространстве можно было определить как отставание от солнца. Мы стремились перешагнуть рубеж сегодняшнего утра, но утро чудовищно растянулось во времени и пространстве, очень неохотно переходя в полдень, так что иногда казалось, что я со своим узколокальным представлением о времени уже никогда не вырвусь из плена этого нескончаемого атлантического дня и никогда не увижу заката. А в той стране, где я оставил всех дорогих для меня людей, уже наступила ночь и над острыми крышами в черном небе сверкали граненые звезды Большой Медведицы.
Я уже никогда не увижу заката, так и перейду в вечность, не взглянув в последний раз на звездное небо.
Да, самое лучшее: в звезды врезываясь.
Самое тягостное было ощущение потери времени. Даже часы перестали его отражать с присущей им механической точностью. Движение времени можно было определить только по блеску обуви, которая постепенно тускнела без всяких видимых причин, просто так, как все в мире. Обувь обнаружила способность стареть. Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности, но, разумеется, им было еще далеко до вечера, а тем более до ночи с ее непоправимой потертостью, царапинами, сточенными каблуками и сероватым звездным светом.
Я поглядывал на них, как на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности, то есть бесконечной длительности времени существования мира, обусловленной несотворимостью и неуничтожимостью материи.
При этом во мне продолжало непрерывно усиливаться и нарастать предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь. Несомненно, это явление было следствием раздражений, несущихся в