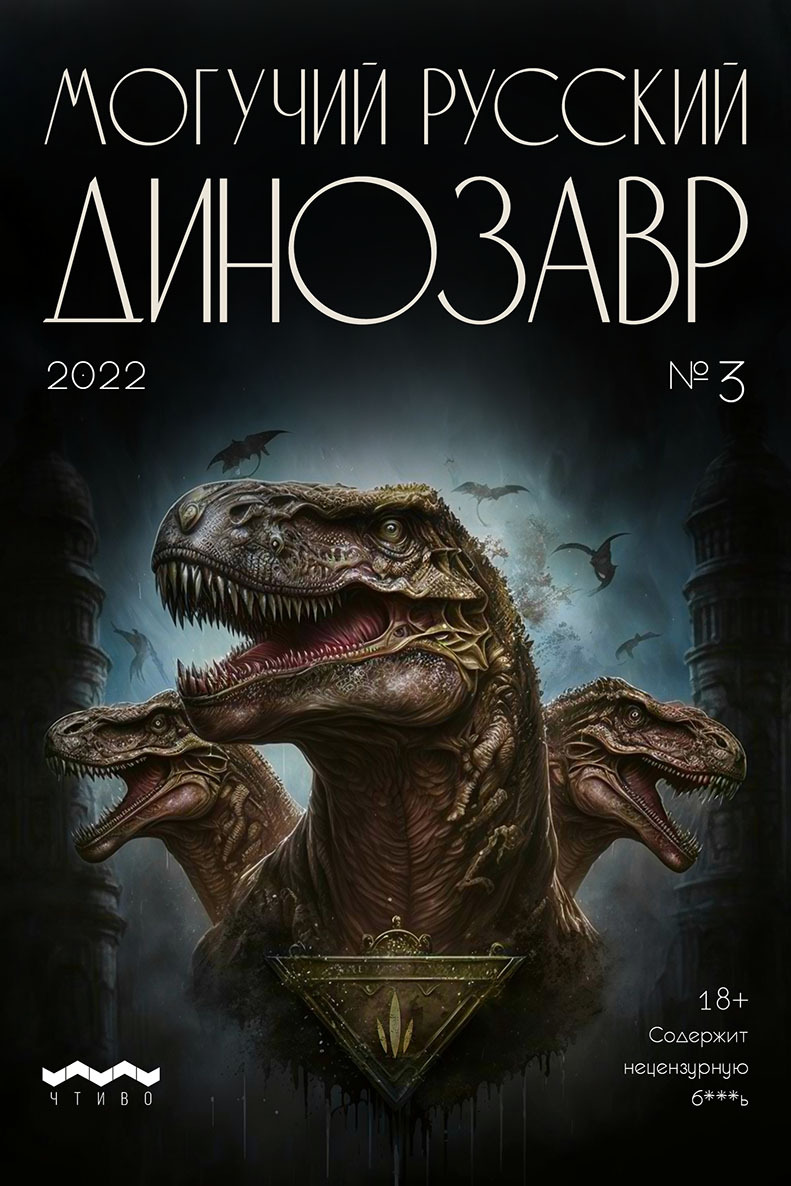шел в читальный зал, потом сидел на лекциях и снова, до позднего вечера, сидел в читальном зале. Учеба мне нравилась, особенно лекции, где нам показывали слайды с фотографиями шедевров архитектуры, скульптуры и живописи. Теоретические построения, которые я в двадцатилетнем возрасте считал зубодробительно сложными, теперь стали понятны, и это поражало, потому что к теории я с тех самых пор не подступался, впрочем, раздумывать об этом было некогда: я пришел учиться, что я и делал.
Книга Туре вышла и получила хорошие отзывы, Туре пригласили в «Вагант», так что в редакции журнала состояло уже два моих лучших друга. Тонья по-прежнему работала на радио, по выходным мы ходили в гости к ее маме или к семье брата, или смотрели дома телевизор, или выбирались куда-нибудь с друзьями. Жизнь устаканилась, все наладилось, оставалось добить два предмета и перейти на основную специализацию, и тогда с работой и карьерой все тоже образуется. Кроме того, я предпринял последнюю отчаянную попытку что-то написать. Это было вопреки здравому смыслу, я больше не верил, что у меня получится, мной двигало чистое упрямство. Хватит с меня рассказов, теперь я напишу роман. О невольничьем судне «Фреденсборг», в XVIII веке затонувшем неподалеку от Трумёйи, – его нашли, когда я был мальчишкой, не без участия директора нашей школы. Эта тема запала мне в душу, она всегда меня завораживала, особенно когда я увидел в музее Ауст-Агдера связанные с ней экспонаты, мир и история сошлись в одной точке рядом с местом, где я вырос. Дело продвигалось медленно, о многом я не имел понятия, например, не представлял себе, как проходили дни на парусном судне три века назад, не знал ни чем занимались матросы, ни какие снасти использовались, ни как что называется, помимо разве что парусов и мачт, и все это сковывало мою свободу. Море я могу описать, и небо тоже, но на этом роман не выстроишь. Мысли героев? А о чем думал матрос в восемнадцатом веке? Я не сдавался, продолжал бороться и дальше, брал в библиотеке книги, порой записывал одно-два предложения, вернувшись вечером из читального зала, иногда садился за роман по воскресеньям, выходило скверно, но ведь рано или поздно все срастется, как у Хьяртана: издательство «Октобер» приняло его стихи и обещало выпустить сборник следующей осенью. Хьяртан сочинял стихи уже двадцать лет и добился наконец чего хотел, и я испытывал безграничную радость за него, ведь ему пришлось бросить работу и учебу, и, кроме стихов, у него ничего не оставалось.
* * *
В конце осени Ингве позвонил мне из Балестранда: с ним связался Гуннар, папа исчез.
– Исчез?
– Да. На работе его нет, дома тоже, и ни у бабушки, ни у Эрлинга.
– Может, уехал на юг?
– Маловероятно. Наверняка что-то случилось. Полиция объявила его в розыск. То есть он пропал официально.
– Охренеть. Думаешь, он умер?
– Нет.
Через несколько дней Ингве позвонил опять:
– Папа нашелся.
– Правда? Где?
– В больнице. Его парализовало. Он не может ходить.
– Ты серьезно? Что, правда?
– Да, судя по тому, что я узнал. Хотя, скорее всего, не навсегда, там что-то связанное с выпивкой.
– И что теперь?
– Его положат в лечебницу, наподобие реабилитационного центра.
Я позвонил маме и обо всем рассказал. Она спросила, как называется лечебница, я ответил, что не знаю, но Ингве, скорее всего, в курсе.
– А тебе зачем? – спросил я.
– Хочу написать ему пару строчек.
* * *
Пришло время экзаменационной сессии, на письменном экзамене мне достался вопрос о греческих статуях, написал я успешно; на устном сказали, что поставят высшую оценку независимо от ответа. Я продолжал учебу, взял в качестве дополнительного курса философскую эстетику и всю Пасху читал «Критику чистого разума» Канта; Тонья подала документы на факультет медиаведения в Волде; Туре сообщил по телефону, что ему поручили составить одну антологию и он хочет в ней напечатать и меня. Но у меня ничего нового нет, возразил я. Тогда напиши, сказал Туре, надо тебя издать. Я просмотрел то немногое, что у меня имелось, – ничего стоящего, кроме разве что одного куска из романа, который я почти закончил. Восемнадцатый век, «Фреденсборг» проходит между островами Мэрдё и Трумёйя, он держит курс из Копенгагена в Африку за рабами, кто-то из экипажа смотрит на берег, где посреди крестьянского двора женщина поднимает из колодца ведро воды, на дом, совсем ветхий. Вокруг женщины роем вьются мухи. В доме лежит мужчина, он находится в чем-то вроде комы, каждый день спит все дольше, пока вокруг все постепенно разрушается, и наконец сон поглощает его целиком, заключает в себя, и женщина, до сих пор боровшаяся с обстоятельствами, обретает свободу. Этот отрывок я переделал в рассказ, назвал его «Сон» и отправил Туре.
В конце весны мне позвонил Эйвинн Рёссок, он получил должность редактора отдела культуры в «Классекампене» и предложил мне писать рецензии на книги. Я согласился. К экзамену по второй специальности я написал пятьдесят страниц о понятии мимесиса, целую брошюру, сдал ее дежурным и пошел домой. Оценку я получил до неприличия высокую и стал постепенно смиряться с мыслью, что мне суждено стать ученым.
Тонью приняли в Волде, и она готовилась к переезду, а я остался в Бергене, меня ждала основная специализация, после чего я собирался тоже перебраться в Волду на последний год ее учебы. Рассказ мой Туре принял, включил в антологию, тот остался незамеченным, и все же какие-то плоды это принесло: однажды мне позвонил Гейр Гулликсен, он спросил, не еду ли я в ближайшее время в Осло, и если да, то неплохо бы мне заглянуть к нему и обсудить мой рассказ.
Я соврал, что как раз еду, и мы договорились о встрече.
* * *
В Осло я, как обычно, остановился у Эспена. Поскольку Туре тоже тут жил, мы с утра собрались втроем и прокатились на велосипедах в жутковатую часовню Вигеланна, а вечером снова встретились и пошли на ужин. На нем присутствовала вся редакция «Ваганта» – Кристине Нэсс, Ингвиль Бурки, Хеннинг Хагеруп, Бьорн Огенэс, Эспен, Туре, ну и я. Они попросили меня взять интервью у Руне Кристиансена, уже на следующий день, поэтому я на одни выходные словно превратился во внештатного сотрудника. Ужинали мы дома у Кристине Нэсс, расселись за маленьким столом, в камерной уютной атмосфере, рядом сидели двое моих друзей; я попал туда, где мне хотелось находиться, но так благоговел перед собравшимися, что не смел и слова сказать, просто сидел и слушал. Меня посадили рядом с Хеннингом Хагерупом, лучшим критиком своего поколения, он задал мне пару вежливых вопросов, я не ответил. Ничего не сказал, лишь кивал, уставившись в столешницу, потом взглянул